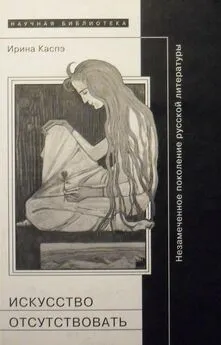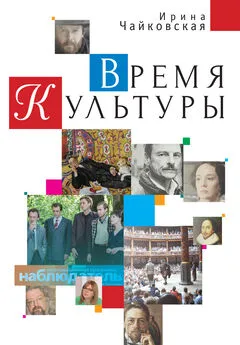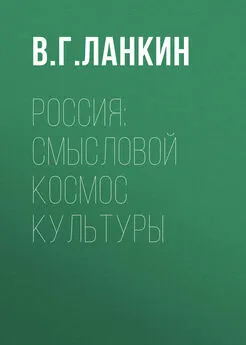Ирина Каспэ - В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры
- Название:В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1035-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Каспэ - В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры краткое содержание
В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что я намереваюсь уловить в этом сложном переплетении различных форм утопической рецепции (и, безусловно, различных форм отказа от нее)? Прежде всего – экзистенциальное измерение утопии, те уровни, на которых утопия встречается с поиском смысла и страхом смерти. Я убеждена, что утопия может значить для своих реципиентов нечто большее, чем конструктор идеального общества, нечто большее, чем режим социального проектирования или социальной критики. В этом случае язык социального, на котором «говорит» утопия, – не столько цель, сколько средство: социальное оказывается областью, в которой ищутся ответы на предельные, экзистенциальные вопросы; утопия – способ справляться с этими вопросами через язык социального. Здесь будет кстати образная и лишь на первый взгляд мрачная формулировка, предложенная социологом-конструктивистом и лютеранским теологом Питером Бергером: «Каждое общество, в конечном счете, – это люди, связанные вместе перед лицом смерти. Власть религии, в конечном счете, зависит от того, насколько убедительны знамена, которые она вкладывает в руки людей, стоящих перед лицом смерти или, вернее, неотвратимо идущих по направлению к смерти» (Berger, 1990 [1967]: 51). Мой объект изучения – позднесоветское секулярное общество, на знаменах которого написано «общество». Траектории неотвратимого движения к смерти под этими знаменами я и пытаюсь, в сущности, описать.
В таком контексте появляется третье (помимо «реальности» и «утопии») ключевое для моего исследования понятие – «смысл». Возможно, одно из самых значимых открытий, спровоцированных катастрофическим опытом XX века, – концептуализация смысла как потребности, необходимой для поддержания жизни. С этих позиций смысл объективируется, чтобы затем быть присвоенным, рассматривается как то, что можно утратить и обрести, выбрать и отбросить, переосмыслить и переопределить (в самых радикальных трактовках – произвести, выстроить, сконструировать), но в любом случае – как то, в чем мы жизненно нуждаемся и дефицит чего регулярно обнаруживаем. В данной книге я подробно анализирую конструкцию «смысла жизни», занявшую заметное место в «оттепельных» публичных дискуссиях, и ее связь с утопией – с пространством, в котором вопрос о «смысле жизни», конечно, избыточен и которое, в классическом варианте, демонстрирует абсолютное торжество смысла, абсолютное вытеснение всего неподконтрольного, то есть, в рамках утопической логики, – нефункционального, а значит, бессмысленного. Смысл как обретение контроля и смысл как полнота переживания контакта с «реальностью» (с тем, что неподконтрольно и непредсказуемо) – два полюса, напряжение между которыми, пожалуй, интересует меня здесь больше всего.
В центре подобной проблематики, безусловно, находится фигура субъекта – того, кто присваивает смысл или задает его вектор, того, кто совершает выбор или отказывается от него. В любых социальных и политических условиях персональные выборы не перестают быть свободными – это едва ли не единственный тезис, представлявшийся мне в ходе исследований безоговорочно аксиоматическим.
Итак, я предлагаю определенную концепцию рассмотрения утопического, но не для того, чтобы автоматически «подверстать» под нее позднесоветский материал, а скорее чтобы продемонстрировать, насколько сложными оказывались формы утопического восприятия. При этом я надеюсь показать, что тему утопии можно рассматривать в связи с проблемами субъектности, идентичности и что утопия прямо соприкасается с «предельными», «рубежными» областями – речь в книге в первую очередь идет о том, как поднимались экзистенциальные вопросы, как разрешались кризисы мотивации, целеполагания, страха смерти в посттоталитарном, изоляционистском и декларативно секулярном обществе. Подчеркну – мое исследовательское внимание сосредоточено в данном случае на городской культуре, на культурных практиках «советского среднего класса» или «советской интеллигенции» (оба термина взаимодополнительны и в равной мере неудачны – первый отчетливо презентистский, второй слишком размыт и вместе с тем слишком символически нагружен, однако на сегодняшний день их, в сущности, нечем заменить).
Главы книги преимущественно представляют собой исправленные, дополненные и адаптированные под общую задачу варианты статей, публиковавшихся в разные годы. По сути, это самостоятельные мини-исследования, в которых я использую не только разный материал, но и разные способы работы с ним. Общими остаются антропологическая ориентированность и рецептивный подход. Говоря о восприятии утопии, я имею в виду два ракурса – исторический и феноменологический. Мне интересна история идей и аффектов, история «оттепельных» представлений об утопическом коммунизме, о светлом коммунистическом будущем, об энтузиазме его строителей; как и история эмоционального выпадения из ситуаций социального взаимодействия и постутопической элегической сентиментальности, особенно характерной для самых последних, «застойных» советских лет. Но также я учитываю, что навык восприятия советского прошлого через призму утопии прочно встроен в сегодняшние рецептивные практики и – в мой собственный взгляд. Утопия остается моделью, которую мы всё еще продолжаем в той или иной степени использовать при написании советской истории. Моя цель здесь – не столько деконструировать и отбросить эту модель, сколько научиться пользоваться ею осознанно, отчетливо задавая ее границы.
Есть и еще одна методологическая особенность книги, которую следует оговорить. Описывая опыт утопического восприятия через проблематику идентичности, я ищу выходы к интерпретативным ресурсам психологии. Но при этом не апеллирую к лакановскому психоанализу, хотя такая отсылка выглядела бы в культурологическом исследовании наиболее конвенционально, а опорные для Жака Лакана понятия – «реальное», «воображаемое», «символическое», «желание» – кажутся очень близкими к словарю, почти неизбежному при разговоре об утопии. Как любая тотальная объяснительная система, лакановский подход требует от исследователя целого ряда фундаментальных соглашений, которые мне не хотелось бы подписывать. Вместо этого – больше имплицитно, чем эксплицитно – я ориентируюсь на оптику экзистенциальной психологии, собственно и совершившей то открытие «смысла», о котором я писала чуть выше.
Все источники, с которыми я работаю, так или иначе находятся в открытом доступе – среди них нет архивных материалов, и это сознательное решение. Изучение недавнего прошлого позволяет иметь дело с видимым слоем культуры – с тем, что кажется очевидным и общеизвестным. По моему глубокому убеждению, этот слой необходимо исследовать, пока иллюзия его понятности не трансформировалась в окончательное непонимание.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: