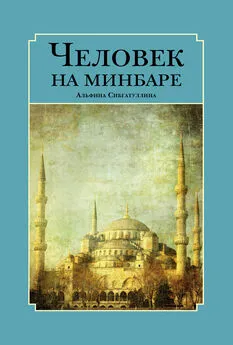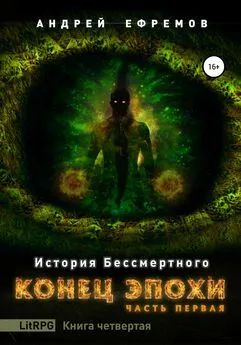Альфина Сибгатуллина - Человек на минбаре. Образ мусульманского лидера в татарской и турецкой литературах (конец ХIХ – первая треть ХХ в.)
- Название:Человек на минбаре. Образ мусульманского лидера в татарской и турецкой литературах (конец ХIХ – первая треть ХХ в.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907041-08-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альфина Сибгатуллина - Человек на минбаре. Образ мусульманского лидера в татарской и турецкой литературах (конец ХIХ – первая треть ХХ в.) краткое содержание
Адресуется тюркологам и всем, кто интересуется культурой, историей тюркских народов и исламом.
Человек на минбаре. Образ мусульманского лидера в татарской и турецкой литературах (конец ХIХ – первая треть ХХ в.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наиболее откровенную и последовательную позицию в этом вопросе занимал поэт и мыслитель Габдрахим Утыз-Имяни (1754–1834) [14] Кемпер М . Статус ислама в России. С.295.
. Его отношение к муфтию и Духовному собранию мусульман, незыблемость авторитета и законность полномочий которых были «освящены самой царской властью», отражено в следующих поэтических строках:
О боже, не заставляй меня
Стучаться в ворота к четверым:
Один из которых судья, другой – чиновник,
Третий – муфтий, четвертый – правитель.
Он и его единомышленники осудили главный орган мусульман России за то, что тот назначал мулл наподобие государственных чиновников и не учитывал интересов прихожан, испокон веков выбиравших служителей культа, основываясь на их человеческих качествах.
Как идеологическая направленность и идейно-тематическое содержание художественных произведений, так и позиции самих авторов, их мировоззрение и умонастроения были обусловлены ролью религии в обществе и ее культурообразующими функциями.
Несмотря на то, что коллегия ОМДС имеет сходные черты с шейхульисламами и кадиями Румелии и Анатолии в Османской империи и системой устройства мусульманского духовенства Крыма, положение религиозных деятелей в Российской империи существенно отличалось, ибо российские мусульмане изначально имели статус «иноверцев» и «инородцев», в отличие от османцев. С XVIII в. происходил сложный процесс интеграции мусульман в Российское имперское социально-правовое пространство. Отказавшись от политики тотальной религиозной унификации мусульман, правительство Екатерины II поставило в приоритет установление «удовлетворительных» отношений с уммой, интеграцию представителей мусульманской конфессии путем сотрудничества с ее элитой. Основная функция ОМДС заключалась в формировании группы священнослужителей, лояльно настроенной по отношению к царскому правительству и способной отражать антиправительственную идеологию Османского государства и среднеазиатских ханств [15] История татар с древнейших времен. В семи томах. Т. VI. Формирование татарской нации. XIX – начало ХХ в. Казань, 2013. С. 424. Байбулатова Л.Ф . История Оренбургского магометанского духовного собрания в личной и делопроизводственной переписке муфтиев (по своду «Асар» Р. Фахретдина) // Из истории и культуры народов Среднего Поволжья: Сб. статей. Вып. 3. Казань, Ихлас; Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. С. 42.
.
Исследователи справедливо считают, что создание Духовного управления мусульман все же было объективно необходимо как для мусульман, которые признавали лишь религиозную власть, так и для самодержавия, которое на протяжении столетий безуспешно пыталось контролировать это общество и управлять им. Так было организовано государственное регулирование религиозной жизни российского мусульманства «сверху»: издание фетв муфтием и кадиями происходило под наблюдением губернского правления и МВД, под давлением властей ОМДС принимало постановления, которые запрещали имамам применение положений шариата, противоречащих законам Российского государства и т. д. [16] Хабутдинов А. Оренбургское магометанское духовное собрание // Ислам в Поволжье. Энциклопедический словарь. С. 247.
. Поэтому мусульмане считали некоторые указы и распоряжения ОМДС методами их русификации и христианизации и отказывались им подчиняться.
В таких условиях роль муфтия для мусульманского населения также была неодназначной. Шигабутдин Марджани (1818–1889), который первым в татарской историографии изложил биографии мусульманских лидеров Поволжья и Приуралья, в целом отзывался о них нелестно. Приведенные им биографические сведения – характеристики первых муфтиев, кадиев и руководителей ратуши в «Мустафад аль-ахбаре» – очень значимы, хотя в некоторой степени, возможно, субъективны, поскольку Марджани наиболее известных религиозных деятелей хотел видеть лидерами нации [17] Юзеев А . «Мустафад аль-ахбар» как источник изучения первых мусульманских лидеров России // Марджани о татарской элите. С. 37.
. По мнению А. Юзеева, сведения Марджани о первых муфтиях в основном достоверно отражают исторические факты. Екатерина II открыла российский муфтият не только из-за необходимости государственного контроля над мусульманским духовенством, но и преследуя политические цели: использование мусульманских лидеров-татар в мирной колонизации степных земель Средней Азии. Для внешней политики России и Центральной Азии необходимы были люди, знающие язык, быт и традиции казахского народа, которым бы местные феодалы доверяли. Роль тонких дипломатов как раз и играли первые три муфтия – Мухаммаджан Хусаинов, Габдессалям Габдрахимов и Габдельвахид Сулейманов, которые, «будучи религиозными деятелями, активно привлекали в лоно российского муфтията мусульманское население Средней Азии и Казахстана» [18] Там же. С. 37–39.
. Поэтому как среди населения своего времени, так и среди современных историков сложилось мнение о том, что назначенные правительством муфтии приносили малую пользу умме, кроме того, получили репутацию неких русских дипломатов и разведчиков на Кавказе и в Центральной Азии, осведомителей, или конфидентов [19] См. Юзеев А . «Мустафад аль-ахбар» как источник изучения первых мусульманских лидеров России. С. 38; Д.Д. Азаматов. Оренбургское магометанское духовное собрание в конце XVIII–XIX вв. Уфа, 1996. С. 51; Денисов Д.Н. Биография муфтия Габдессаляма Габдрахимова в свете новых исторических источников // ж. Медина аль-Ислам. Н. Новгород, 2008, № 87, 88.
.
Для Марджани главным критерием при оценке деятельности муфтиев стал уровень их религиозных знаний, необходимых для разрешения многочисленных проблем мусульман России. А их ориентированость на проблемы внешние, политические он считал ошибочной, поскольку фактически первые три муфтия, уполномоченные царской властью, проводили политику колонизации мусульман Средней Азии и Казахстана. Должность муфтия, согласно взглядам Ш. Марджани, следует занимать наиболее авторитетному религиозному деятелю, способному стать духовным лидером российских мусульман. Среди первых трех муфтиев Марджани таковых не видел и считал их людьми невежественными, так как не находил уровень их знаний достаточно интеллектуальным, имея в виду наивысший критерий, предъявляемый к знаниям муфтия [20] Юзеев А . «Мустафад аль-ахбар» как источник изучения… С. 39.
.
В татарской литературе наличествует не так много произведений, посвященных первым муфтиям, но они ценны как раз тем, что отражают формировавшиеся у мусульман Поволжья духовно-нравственные ориентации, прежде всего отношение к российскому ставленнику-муфтию. Литература получила новое смысловое поле, обогатившись данной проблематикой. Характерный пример писательской актуализации этих смыслов – творчество Валида б. Мухаммадамина (ум. 1803), посвятившего первому муфтию ОМДС Мухаммаджану Хусаинову (1756–1824), занимавшему эту должность 35 лет, свою назидательную касыду, где призывал его больше думать о смертном часе и тратить деньги на строительство мечетей и медресе: Чүн мәсаҗид һәм мөдәррис, Һәм канатир җарийә [21] XVIII гасыр татар әдәбияты. Поэзия. Казан, 2006. Б. 103.
.
Интервал:
Закладка: