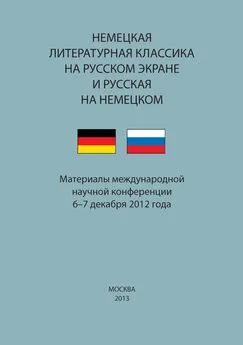Людмила Сараскина - Литературная классика в соблазне экранизаций. Столетие перевоплощений
- Название:Литературная классика в соблазне экранизаций. Столетие перевоплощений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-514-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Сараскина - Литературная классика в соблазне экранизаций. Столетие перевоплощений краткое содержание
Литературная классика в соблазне экранизаций. Столетие перевоплощений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дискуссия о принципах экранизаций литературных произведений возникла вместе с появлением немых картин, то есть тогда, когда немое кино стало брать для своих сюжетов русскую и мировую классику, когда оно стало ее использовать и эксплуатировать, ибо пионеры кинематографии прекрасно понимали, какое колоссальное богатство смыслов и сюжетов у них в руках. Ведь на заре кинематографа фильмы, занимавшие одну бобину кинопленки, длились не более 12–15 минут и зачастую снимались практически без сценария, к тому же участвовать в такого рода предприятиях для серьезных театральных актеров было зазорно. Другое дело – «Русская золотая серия»: так историки кино назвали немые фильмы-экранизации первого и второго десятилетий XX века.
Полемика о принципах вращалась обычно вокруг двух основных тезисов: что для экранизации наиболее ценно: литературный источник или ви́дение режиссера безотносительно к литературному тексту или со слабой привязкой к нему. Чаще всего, к большому сожалению, побеждало и ныне продолжает побеждать второе. Очень редко режиссеры экранизаций заботятся о том, чтобы максимально сохранить целостность и суверенность (речь идет не о букве!) литературного первоисточника, хотя самые большие «вольнодумцы» и «самоуправцы» как раз-таки стремятся убедить зрителей и критиков, что их картины стопроцентно аутентичны литературному оригиналу.
Обычно художники кино яростно отстаивают свое приоритетное право видеть, трактовать, интерпретировать литературный первоисточник так, как они хотят, как считают нужным, с любой степенью произвольности, сообразно своему художественному опыту, эстетическому вкусу и мировоззрению. Более того, в кинематографической среде настойчиво утверждается право использовать литературный первоисточник как «подсветку» или «подпорку» для своих замыслов и решений. От Шекспира, Пушкина, Достоевского, Чехова предпочитают «отталкиваться», как от трамплина, чтобы прыгать затем в бездны своих собственных фантазий. Какими правами обладают создатели литературных оригиналов, никого не волнует – у Шекспира, как говорится, разрешения на его использование никто не просит, ибо понятно, что никаких прав на себя у него давно нет . Классики прошлого, за давностью лет, не могут ничего ни разрешить, ни запретить. Наиболее радикальные защитники прав подобного киноделания, как правило, говорят: «Шекспир (Пушкин, Гоголь, Чехов) давно умерли. Их нет. Теперь есть мы, кто их читает, интерпретирует, ставит».
Экранизаторы классики, соблюдая культурные приличия и клянясь в любви к писателям-классикам, часто просто не способны освоить основной потенциал произведения, он им не нужен, его слишком много, нужно только имя, бренд, отдельные резкие, то есть узнаваемые черты; а дальше можно как угодно «употреблять» их, а порой и насиловать в грубой и извращенной форме.
В самых простых, невинных случаях «использование» получает статус декора, элемента дизайна, смысловой виньетки, слогана-заставки. Дескать, небольшая, в один-два кубика, инъекция Шекспира, Пушкина, Достоевского или Чехова даст кинематографической фантазии режиссера необходимую глубину (ибо самой фантазии такой глубины сильно не хватает, о чем режиссер тайно догадывается); малые или сверхмалые дозы классики призваны играть роль спичек, зажигалок, подсвечников, бра и прочих боковых светильников – всего того, что придает предмету дополнительное освещение.
Стоит сказать и о таком аргументе «использователей» литературы: зачем церемониться с первоисточником, например, с чьим-то романом, если сам этот роман испытал влияние других романов и других источников. Словом, всё принадлежит всем, всё – цитаты из всего, и нет ничего такого, с целостностью, автономностью и суверенностью которого стоило бы считаться. Французские постструктуралисты 1960-х годов считали, что присвоить тексту авторство и дать соответствующую ему трактовку – значит наложить ограничения. Текст, писал Ролан Барт в своем эссе 1967 года «Смерть автора», – это ткань из цитат, взятых из бесчисленных центров культуры, а не из какого-то одного, то есть не из индивидуального опыта, и из коллективных впечатлений. Основной смысл текста, стало быть, зависит от впечатлений читателя, а не от «страсти» или «вкуса» писателя.
Смею все же заметить: экранизатор, беря за основу своего фильма литературное произведение, пишет, что снял картину по мотивам трагедии Пушкина «Борис Годунов» или по мотивам трагедии Шекспира «Гамлет», а не по мотивам всего того разнородного материала из «бесчисленных центров культуры», которым питались, в свою очередь, эти трагедии.
Приведу пример, когда стремление безоглядно «использовать» классику становится основой и даже идеологией картины. Речь пойдет о фильме Н. С. Михалкова «Солнечный удар» (2014), снятого, как утверждают его сценаристы В. Моисеенко, Н. Михалков, А. Адабашьян, по мотивам двух произведений И. А. Бунина – рассказа «Солнечный удар» (1925) и его дневников 1918–1920 годов «Окаянные дни».
Вот что сказал Н. Михалков в телеинтервью журналисту Е. Додолеву: « Для меня сценарий всегда был поводом для картины, даже если это великий писатель . Дело не в том, что я хочу его исправить, не дай Бог, или к нему присовокупиться и почувствовать себя его тенью или даже выше. Для меня сценарий – это импульс, повод. Потом приходят актеры, натура, детали, приходят вещи, которые нельзя написать в сценарии. Многое рождается во время съемок» [12] «Правда 24»: Никита Михалков рассказал о фильме «Солнечный удар» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.m24.ru/videos/65913?attempt=1 (дата обращения 10.05.2015). Курсив мой. – Л.С.
. Здесь же Михалков цитирует авторитетного шведского режиссера театра и кино Ингмара Бергмана: «Я люблю импровизацию, которая очень хорошо подготовлена» [13] Там же.
.
Свою импровизацию Михалков готовил в данном случае долго и тщательно, по его словам, много лет, лично участвуя в написании сценария и полагая, видимо, что его импровизация идет изнутри Бунина, вписывается в общий контекст эпохи и потому найдет свое законное место в картине.
Хочется, однако, вслед за многими зрителями, возразить: рассказ «Солнечный удар» имеет объем 14 тыс. знаков с пробелами, это 3–4 страницы книжного текста, а фильм длится 3 часа. Нет в бунинском рассказе всех этих инкрустаций – неумелых фокусников, драгунов в костюмах мушкетера и с фаллоимитаторами, корабельных поршней, имитирующих половой акт.
Что же касается дневников Бунина «Окаянные дни», они тут вообще ни при чем. У Бунина – Москва и Одесса 1918-го и 1919 годов, у Михалкова – Крым после захвата Крымского полуострова большевиками осенью 1920 года, когда начались аресты и расстрелы оставшихся в Крыму пленных офицеров-врангелевцев. По оценкам историков, с ноября 1920-го по март 1921 года в Крыму было расстреляно от 60 до 120 тысяч человек, а организовали красный террор руководители Крымского ревкома Розалия Землячка и венгр Бела Кун; по версии фильма, поручик из бунинского рассказа о любовном затмении попадает спустя годы, уже будучи капитаном Русской армии Врангеля, на баржу смерти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: