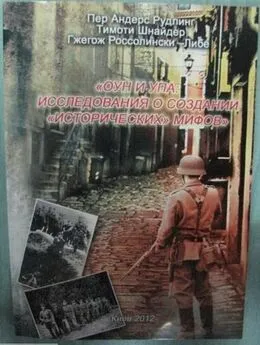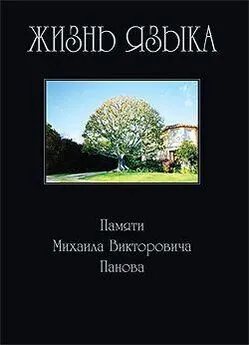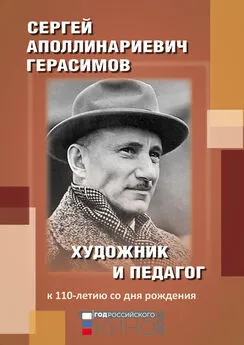Илья Герасимов - Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сборник статей
- Название:Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сборник статей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2011
- Город:М.:
- ISBN:978-5-98379-146-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Герасимов - Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сборник статей краткое содержание
Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сборник статей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поскольку в коллективной памяти подчеркиваются отличительные свойства данной группы, определяющие ее лицо, в общей повествовательной конструкции особо выделяется такое событие, которое знаменует момент возникновения этой группы как независимого социума [27] См. обсуждение вопроса о культурной значимости истоков: Eliade M. Myth and Reality. N.Y., 1963. P. 21—53, а также: Warner W.L. The Living and the Dead: A Study in the Symbolic Life of Americans. New Haven, 1959 [Yankee City Series. Vol. 5]. P. 156—225; Schwartz B. Op. cit. P. 374—402.
. Сохранение памяти о начале истории, несомненно, необходимо для того, чтобы показать особенности данного сообщества, установить его границы по отношению к другим группам. Акцент на «коренном отличии» [28] Как полагает Эвиатар Зерубавель, формирование идеи «коренного отличия», «великого разрыва» приводит к возникновению «ментальных лакун» в общественном сознании – в противном случае мы воспринимали бы реальность как непрерывную. Более подробное обсуждение этих понятий см.: Zerubavel E. The Fine Line: Making Distinctions in Everyday Life. N.Y., 1991. P. 21—32. Значимость этих проблем в контексте новых (или возобновленных) национальных притязаний очевидна в Европе после падения коммунистических режимов.
между данной общностью и всеми остальными нужен для того, чтобы с ходу отмести любые сомнения в легитимности этой общности, в ее праве на существование. Сохранение памяти о возникновении сообщества обосновывает его притязания на независимость – часто путем демонстрации его глубоких корней, теряющихся во мраке веков. Национальные движения в Европе стимулировали значительный общественный интерес к крестьянскому фольклору, поскольку их участники верили в то, что фольклор служит неоспоримым свидетельством уникальности национального прошлого и народных традиций [29] Wilson W. A. Folklore and Nationalism in Modern Finland. Bloomington, 1976; Herzfeld M. Ours Once More: Folklore, Ideology, and the Making of Modern Greece. N.Y., 1986; Handler R. Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison, 1988; Silverman C. Reconstructing Folklore: Media and Cultural Policy in Eastern Europe // Communication. 1989. Vol. 11. P. 141—160.
. Точно так же ближе к нашим дням можно найти примеры попыток воссоздания или изобретения древних традиций, призванных показать общие исторические корни нации, уходящие в далекое прошлое. [30] Бернард Льюис приводит примеры стран Ближнего Востока и Африки, попытавшихся изменить свое национальное прошлое: Lewis B. History: Remembered, Recovered, Invented. Princeton, 1975.
Как заметил Пьер Нора, в современном обществе, как правило, отмечается именно «рождение» нации (а не ее «начала», «истоки»), что позволяет передать ощущение разрыва с прошлым [31] Nora P . Op. cit. P. 16—17.
. Действительно, рождение символизирует одновременно и момент отделения данного социума от другой группы, и начало его новой жизни как независимого коллектива со своим собственным будущим. Смещение акцентов в передаче памяти о «начале истории» может также служить и средством изменения самосознания сообщества. В качестве примера можно сослаться на перемены, произошедшие не так давно в представлениях афроамериканцев о своем прошлом. Современное чернокожее население Америки стремится подчеркнуть свое африканское происхождение, что отразилось, в частности, и в самоназвании данной группы. В то время как слово «негр» ассоциируется с рабским прошлым этих людей, желание подчеркнуть свои более древние африканские корни ведет к переосмыслению их групповой идентичности как «афроамериканцев».
Общий смысл развитию социума придает периодизация его истории в коллективной памяти, которая вносит в события прошлого определенный порядок. Подобно другим аспектам коллективной памяти, такая периодизация предполагает постоянный диалог между прошлым и настоящим, изменяясь по мере того, как данное сообщество переосмысливает свою историю с текущих идеологических позиций. Отобрав из числа многих других возможных некоторые критерии, коллективная память делит прошлое на основные эпохи, при этом сложные исторические процессы и явления сводятся к простым сюжетным линиям. Сила коллективной памяти заключается не в скрупулезном, систематичном или особо искушенном реконструировании прошлого, а в создании простых и ярких образов, при помощи которых удается выразить и укрепить определенную идеологическую позицию.
Склонность коллективной памяти к изображению прошлого в черно-белых тонах приводит к нагнетанию контраста между различными историческими периодами и способствует формированию однозначного отношения к тому или иному этапу в развитии данного общества. Таким образом, в коллективной памяти одни периоды представлены как важные шаги, сделанные этим обществом в своем развитии, в то время как другие изображаются как эпохи упадка. Как правило, эпохи первопроходцев, захвата чужих земель или борьбы за независимость получают позитивную оценку в истории нации. Напротив, те времена, когда данный народ входил в состав империй, характеризуются негативно, как эпохи, не позволившие полностью реализоваться его законному праву существовать как независимая политическая единица.
Приведение представлений о прошлом в определенную систему в ходе создания общей повествовательной конструкции также выявляет коммеморативную плотность тех или иных исторических периодов, что Леви-Стросс называл функцией «давления истории» [32] Выражение К. Леви-Стросса. Леви-Стросс говорит о возникновении «горячих» и «холодных» хронологий как результате «давления истории». См.: Lévi-Strauss C. The Savage Mind. Chicago, 1970. P. 259—260. См. также: Warner W.L. Op. cit. P. 129—135; Schwartz B. Op. cit. P. 375—377.
. Под «коммеморативной плотностью» мы имеем в виду то значение, которое общество приписывает различным отрезкам своего прошлого: в то время как одни периоды занимают привилегированное положение в общественном сознании, им посвящено множество памятных торжеств и ритуалов, другие привлекают к себе лишь незначительное внимание или оказываются полностью преданными забвению. Таким образом, «коммеморативная плотность» выше всего у тех эпох или событий, которые занимают ключевое положение в историческом сознании данной группы и сохранению памяти о которых посвящаются значительные усилия. Ниже всего «коммеморативная плотность» тех эпох, которым в рамках общей повествовательной конструкции почти не уделяется внимания. Периоды или события, которые подавляются и затушевываются в коллективной памяти, становятся объектом коллективной амнезии . Таким образом, конструирование общей повествовательной конструкции позволяет увидеть динамику воспоминания и забвения, лежащую в основе создания любого нарратива, объясняющего причины, по которым общество находит нужным сохранять память о каких-то событиях. В то время как в коллективной памяти все внимание уделено определенным сторонам прошлого, отброшенными неизбежно оказываются все другие его аспекты, считающиеся несущественными или потенциально опасными для хода повествования и передачи основного смысла прошлого с определенных идеологических позиций.
Интервал:
Закладка: