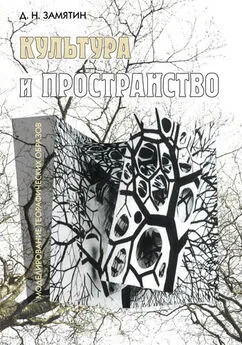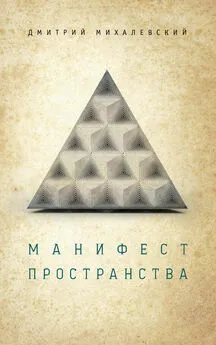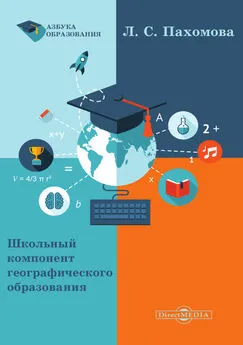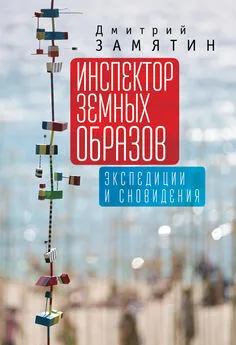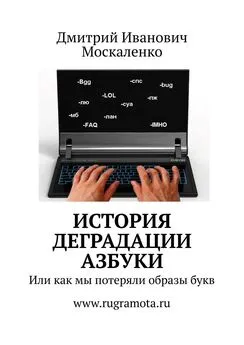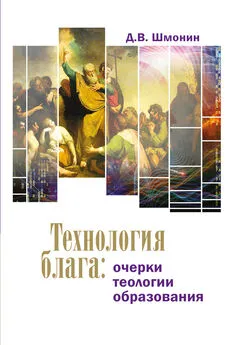Дмитрий Замятин - Культура и пространство. Моделирование географических образов
- Название:Культура и пространство. Моделирование географических образов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0144-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Замятин - Культура и пространство. Моделирование географических образов краткое содержание
Книга может быть полезна ученым-гуманитариям, изучающим проблемы представления культурных пространств; преподавателям и студентам гуманитарных специальностей вузов.
Культура и пространство. Моделирование географических образов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Формовка» и как бы затвердевание новых, продуктивных и ярких географических образов ускоренными темпами протекает на границах различных культур, в тех пограничных, фронтирных зонах, в которых происходит наложение, эклектическое смешение и в то же время обострение традиционного взаимокультурного интереса [120] . Как результат подобного пограничного образно-географического «приключения» выглядит, например, «Московский дневник» Вальтера Беньямина. Образ Москвы Беньямина, классического западноевропейского левого интеллектуала 1920-х годов, естественно, стремится, от противного, предстать в глазах заинтересованного читателя вполне азиатским, «оазиатиться» – оттолкнувшись от западноевропейских реалий того времени. Но это удается не полностью: чисто европейский генезис тех культурных реалий, которые обостренно переживаются и переосмысляются Беньямином в советской столице, делает образ Москвы в его трактовке неоднородным, неустойчивым и все же очень терпким, запоминающимся. Узкие тротуары, которые придают Москве облик импровизированной метрополии; пространство московской зимы, которое изменяется от того, теплое оно или холодное; Москва как «архитектурная прерия» и собственное предместье; постоянное ощущение открытости русской равнины внутри города; деревенская бесформенность огромных московских площадей – все эти локальные географические образы формируют на удивление связную и подробную образно-географическую картину – на стыке различных пространств, культур и времен [121]. Создание столь ярких образов возможно как часть механизма культурной самоидентификации, но сама культура при этом должна быть динамичной и даже агрессивной, в том числе и географически.
Классический американский фронтир – пример культурно-географической экспансии, которая породила живучий и крайне динамичный географический образ. Уникальное соединение географических, культурных, социальных, исторических координат создало «горючую смесь» – своеобразный образно-географический «чернозем». «…фронтир – воображаемый географический рубеж и генетический виток возобновляемого социального развития. Линия и виток. Запад – общее направление, равнодействующая движущихся сил, их вектор и при этом место. Направление и место. Линия, закручивающаяся в спираль, путь, становящийся участком. И наоборот. Но что это за переливы геометрии и географии, переходы одной в другую и обратно, что за странное мерцание их оживших элементов, утративших статичность и покой?» [122]. Фронтир, по сути, некое ментальное пространство, усвоившее и вобравшее в себя черты пространства географического, реального и ставшее динамичным местом мысли, географией самой мысли. Ему присуща особая топология, которая требует и своего собственного, ментально-географического картографирования [123]. Неслучайно, географические пространства, которые стали предметом интенсивной историко– или политико-культурной рефлексии (саморефлексии), становятся одновременно и местами своеобразного картографического культа. «На улице, в снегу, пачками лежат карты СССР, которые торговцы предлагают прохожим. Мейерхольд использует карту в спектакле «Даешь Европу» – Запад изображен на ней как сложная система маленьких полуостровов, относящихся к России. Географическая карта так же близка к тому, чтобы стать центром нового русского визуального культа, как и портрет Ленина…» [124]Американский президент Франклин Рузвельт в 1942 году, в решающий момент второй мировой войны, произнес «Речь о географической карте», картографические отделы книжных магазинов опустели и крупномасштабные карты стали предметом неподдельного интереса миллионов американцев. Реальная географическая карта, таким образом, может выступать как самый эффективный культурно-географический или политико-географический образ, который представит «квинтэссенцию» континента, страны или района, даже если сама она запечатлела совсем другие территории. Великий географический образ (каким можно, например, считать образ фронтира) спонтанно развертывает свои географические карты и способствует порождению множества интерпретаций, которые и сами, по существу, являются пространственно-географическими [125].
Теоретическая география. Методологическое осмысление понятия географического образа происходило в середине и второй половине XX в. также в рамках развития теории самой географии. Следует сразу отметить, что теоретическая география активно соприкасалась здесь со страноведением, сравнительной географией и краеведением. Классические исследования образа места [126]и страны [127], формулирование содержательной значимости географических сравнений для формирования образа района [128]способствовали выявлению основных черт рационализации научной мысли с помощью географических образов. Вполне очевидным было также повышение эффективности географической мысли благодаря использованию образов.
В концептуальном отношении процессы районирования и районизации, как правило, четко разводятся между собой, при этом утверждается, что «районированием порождаются субъекты высказываний и объекты деятельности» [129]. По сути дела, районирование – это уникальная субъект-объектная деятельность, не разрывающая, а как раз прочно соединяющая субъективные и объективные особенности функционирования территориальных структур общества. Следовательно, можно говорить о потенциальном существовании районов, а само пространство человека может трактоваться как «…плотное иерархическое полицентричное кружево» [130]. Подобный, хорошо обоснованный и содержательный подход позволяет проводить интересные интерпретации многих современных политических, экономических и культурных процессов в мире – так, известная концепция «многополярного» мира, по мнению Б. Б. Родомана, есть не что иное, как «тривиальная узловая районизация» [131]. Районирование – не только центральное понятие теоретической географии, но и широкий географический образ, позволяющий «осваивать» пространство и время общества.
Закономерности и основные процедуры районирования могут обнаруживаться как путем обычных визуальных наблюдений, так и с помощью хорошо известных моделей и образов географических наук. Например, по состоянию растительности у дороги можно судить о расстоянии до поселения и его месте в территориальной иерархии; очень эффективны также аналогии, связанные с территориальностью животного мира [132]. Наиболее яркие и продуктивные образы – это геоморфологические образы, представляющие ряд процедур районирования как квазигеоморфологические процессы. Понятие и образ рельефа прекрасно «работает» при описании узловых и однородных районов, при этом возможно даже «овеществление» статистического рельефа узловых районов» [133]. В результате подобного концептуального «насыщения» районирование становится во многом целенаправленной деятельностью по описанию, параметризации и размещению географических образов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: