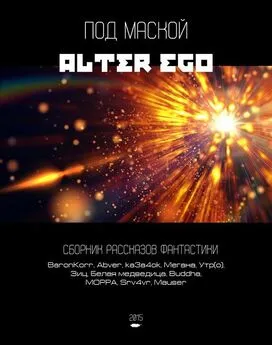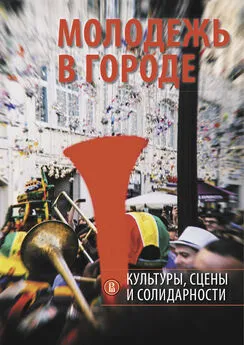Array Коллектив авторов - Исторические повороты культуры: сборник научных статей (к 70-летию профессора И. В. Кондакова)
- Название:Исторические повороты культуры: сборник научных статей (к 70-летию профессора И. В. Кондакова)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906709-76-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Исторические повороты культуры: сборник научных статей (к 70-летию профессора И. В. Кондакова) краткое содержание
В книге раскрыто многообразие подходов и оценок к пониманию динамики происходящих цивилизационных и социально-политических изменений, в той или иной мере сказывающихся на мировоззренческой и стилевой палитре современной культуры; показывается уникальность художественного творчества разных периодов истории культуры России; выявляются основные тенденции социокультурного развития в процессе перехода к информационной эпохе. Авторский коллектив отразил методологические поиски научного сообщества в области культурологии, философии, искусствознания, в целом – современного социально-гуманитарного знания и – круг научных интересов юбиляра.
Издание адресовано как специалистам, так и широкому кругу читателей, проявляющих интерес к поворотным моментам истории культуры России, теоретическим проблемам культурологии и философии культуры.
Книга также рекомендуется в качестве учебного пособия преподавателям и обучающимся в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре для использования в курсах культурологии, антропологии, социологии, теории и истории культуры, искусствоведения, этнологии, государственного управления и менеджмента в социокультурной сфере.
Исторические повороты культуры: сборник научных статей (к 70-летию профессора И. В. Кондакова) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Соответственно, это связано с управленческими инновациями, направленными на выстраивание такой системы взаимодействия элементов и взаимосвязи факторов, при которых существующая конфигурация социокультурной среды будет удерживаться в заданных координатах «Основ государственной культурной политики», несмотря на стохастичность происходящих изменений. Динамичность показателей социокультурного пространства (неустойчивость – вариативность, нелинейность – разнообразие), обеспечивающаяся включенностью в управление разных субъектов культурной политики и разных способов инициирования их активности, требует проведения глубоких научно-аналитических и экспертных исследований. Однако в этих условиях не менее значимым представляется и точность идущих от координирующего центра импульсов, удерживающих образы будущего и стратегические цели культурной политики [131] Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. Распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71243400
. Вопросы о достижении семантической полноты и новых концептуализаций, о достижении аутентичности самих процессов саморазвития российской и русской культуры, а также преодоления конфронтационных линий субъектов культурной политики между собой усиливают тяготение к консолидации разных социальных групп и ориентацию не только на конкуренцию и противостояние, но и стимулирует появление коммуникативных моделей.
Центральным моментом становится не только выбор модели, но и сценарий, и гарантии ее реализации – наличие адекватных механизмов культурной политики. В контексте усложняющихся международных отношений диалоговые модели закрепляются как ключевое базовое обоснование ответственности государства за выстраивание дополнительных уровней-контуров, придающих культурной политике целостный и результативный характер, т. е. за развитие межрегионального, межсекторного и межведомственного взаимодействия, способного повлиять на вектор национально-культурного развития Российской Федерации.
Н. Г. Багдасарьян. Образование в формуле российской модернизации: эффект Даннинга-Крюгера
Модернизация не имеет цели формирования совершенного общества. Ее цель – формирование общества современного.
В. Г. Федотова[132] Федотова В. Г. Модернизация и культура. – М.: Прогресс-Традиция. 2016. С. 3.
В британском журнале Journal of Personality and Social Psychology в декабре 1999 года были опубликованы результаты экспериментов, подтвердившие следующую гипотезу Даннинга-Крюгера: «Люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации» [133] Kruger, Justin; David Dunning (1999). Unskilled and Unaware of It: How Difculties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Infated Self-Assessments // Journal of Personality and Social Psychology 77 (6): 1121–34. DOI:10.1037/0022–3514.77.6.1121. PMID10626367.
. Нельзя сказать, что повседневная практика человеческого общежития до Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера не давала повода обнаружить этот психологический парадокс: менее компетентные люди считают себя профессионалами, а более компетентные склонны сомневаться в себе и своих способностях. И без всяких экспериментов схожие наблюдения высказывались философами и учеными разных времен, на что и указывают Даннинг и Крюгер. Вот Чарльз Дарвин: «Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание». И Бертран Рассел: «Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности». Такова же и мудрость Конфуция: «Истинное знание – в том, чтобы знать пределы своего невежества» и Библии: «Тот, кто думает, что он что-то знает, на самом деле ещё не знает так, как ему следовало бы знать» (апостол Павел, Коринфянам, 8 глава).
Гераинт Фуллер, комментируя статью, отметил, что аналогичная мысль высказана в произведении Уильяма Шекспира «Как вам это понравится» («Te Foole doth thinke he is wise, but the wiseman knowes himselfe to be a Foole» (V.i) – «Дурак думает, что он умен, а умный человек знает, что он глуп» [134] Fuller, Geraint (2011). Ignorant of ignorance? // Practical Neurology. 11 (6): 365. DOI:10.1136/practneurol-2011–000117. PMID22100949.
.
Гипотеза, выдвинутая Даннингом и Крюгером, звучит следующим образом. Для людей с низкой квалификацией в любом виде деятельности характерно то, что они склонны переоценивать собственные умения; неспособны адекватно оценивать действительно высокий уровень умений у других; неспособны осознавать всю глубину своей некомпетентности. Однако после обучения у них появляется способность осознать уровень своей прежней некомпетентности, даже если их истинная компетентность после обучения практически не меняется.
Какое отношение все это имеет к практике жизни пореформенной России? Действительно, эта практика чрезвычайно многообразна. Но все же зададимся вопросом: какая модель модернизации в ней доминирует? Объем статьи не позволяет в деталях остановиться на понятии модернизации, которая имеет значительный диапазон значений в дискурсе, разворачивающемся вокруг нее. Поэтому примем в качестве исходного тезис, вынесенный нами в эпиграф, отметив, что каждому из граждан, вероятно, хотелось бы жить в обществе «совершенном», но в силу утопизма подобной модели, приходится принять в качестве цели общество современное. Как отмечает В. Г. Федотова, модернизация «в практическом плане – это мягкое движение к позитивным изменениям» [135] Федотова В. Г. Модернизация и культура. – М.: Прогресс-Традиция, 2016. С. 9.
.
Но современные общества в палитре мировой картины чрезвычайно многообразны. История и культура формировали инвариантные модели преобразований в странах Европы и других континентов. Их изучение дает много пищи для дискуссий о собственном пути. Между тем, многие российские политики и интеллектуалы полагают, что наиболее реалистическим приоритетом развития страны остается авторитарная модернизация – то есть реформирование экономики и социальной сферы России при сохранении статус-кво во внутренней политике. Более того, такой ход модернизации оценивается многими не только как приоритетный, но и как желательный.
Какая база может служить опорой для авторитарных лидеров при проведении реформ?
Они могут опираться либо на бюрократию, либо на силовиков, либо на доминирующую партию (или на их комбинацию) [136] Гельман В. Тупик авторитарной модернизации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.polit.ru/article/2010/02/23/gelman/#_edn4
. Любой из вариантов требует высокой профессиональной квалификации, наличия стимулов к эффективному выполнению поставленных задач и ограждения бюрократии от влияния со стороны групп специальных интересов. Это подчеркивает в своей книге «Политический порядок в меняющихся обществах» и Самюэль Хантингтон: ключевым фактором успешной социально-экономической модернизации выступает способность властных институтов государства обеспечить управляемость данного процесса и минимизировать неконтролируемое участие в политике общества в целом и отдельных социальных групп [137] Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М.: Прогресс-Традиция, 2004.
. Между тем, сама по себе авторитарная управленческая модель предполагает предпочтение лояльности перед эффективностью: любая бюрократия заинтересована не столько в реформах, сколько в сохранении status quo. Созданная «вертикаль власти» в принципе не способна к разработке стратегии российского развития. В ней просто отсутствуют стратегические субъекты. Они в ней и не предусмотрены, так как неминуемо порождали бы ту «прозрачность», которая совсем не нужна коррумпированным чиновникам [138] Лепский В. Е. Аналитика сборки субъектов развития. – М.: «Когито-Центр», 2016. С. 12.
. Поэтому госаппарат, включая кабинет министров, превращается в функциональный набор чиновников, выполняющих технические функции. Реформы проводятся ради реформ, а вмешательство чиновников идет под лозунгом: «Давайте чинить то, что не ломалось».
Интервал:
Закладка: