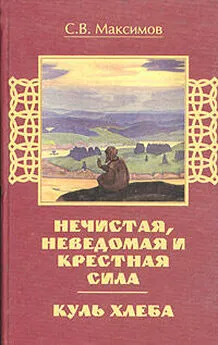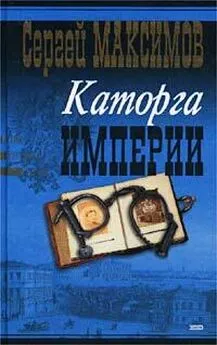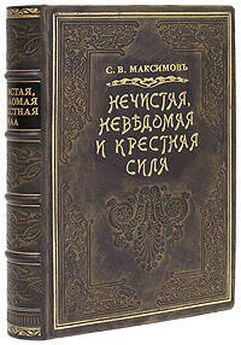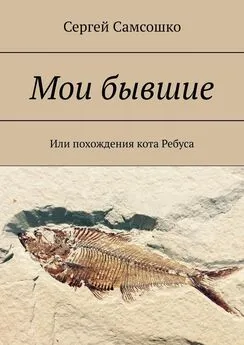Сергей Максимов - Куль хлеба и его похождения
- Название:Куль хлеба и его похождения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русич
- Год:1995
- ISBN:5-88590-387-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Максимов - Куль хлеба и его похождения краткое содержание
Хлеб — наша русская пища
- Хлеб да соль! — говорит коренной русский человек, приветствуя всех, кого найдет за столом и за едой.
— Хлеба кушать! — непременно отвечают ему в смысле:
Милости просим, садись с нами и ешь
Вот об этом-то хлебе и об этом народе, возделывающем хлебные растения и употребляющем преимущественно мучную, хлебную, крахмалистую пищу, я хочу рассказать и прошу моих рассказов послушать. Как, по пословице, от хлеба-соли никогда не отказываются. Так и я кладу крепкую надежду, что вы не откажетесь дослушать до конца эти рассказы о хлебе или лучше, историю о куле с хлебом. Всякая погудка ко хлебу добра, говорит наш народ, да и моя — старая — на новый лишь лад. Почему я начал говорить именно о хлебе, сейчас объясню
"Куль хлеба", книга, написанная вроде бы про всякие детали земледельческого быта и труда второй половины XIX века, на самом деле рассказывает о тысячелетней культуре нашего народа, изображая ее на хлебном "срезе".
Книга русского писателя Сергея Васильевича Максимова, впервые вышла в 1873 году.
Куль хлеба и его похождения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хлеб, скупленный на зимних сельских базарах, мелкие перекупщики везут к тем крупным купцам, которые выдают им деньги на покупку хлеба. Там и сгружают. От главного купца хлеб вдет гужом, то есть сухопутьем, к пристаням, на которых, впрочем, и живут эти главные купцы — хлебные торговцы.
Многие перекупщики носят непохвальное для них прозвище кулаков, шибаев, масов и маклаков в том смысле, что они на деньгах скряги, на торгу что кремень крепки и неуступчивы. Кто родом кулак, тому не разогнуться в ладонь, — говорит пословица и сказывает настоящую правду: кулаки — самый продувной народ, мещанская голь мелких и больших городов, в которых существуют хлебные склады и пристани. Где большие закупы хлеба, там и они, как шмели, большие недруги крестьянского счастья, — сверх плуга на два фута. Обсчитать и обмерить крестьянина — для него самое великое наслаждение. Проделки свои он считает изобретением высокого ума и своими выходками охотно хвастается. На обман у него нет ничего заветного. Хлеб меряется особою мерой при приеме от земледельца, той мерой, на которую условится: деревянные меры у кулаков поддельные, ненастоящие, не клейменные казенным знаком, а прилаженные дома для надлежащих плутней. Настоящий кулак и на базаре, на всем честном народе, середь белого дня шаловлив и не совестлив. Травленый плут и мятые бока и помимо базара найдется: он прямо в деревню придет задами и с оглядкой. Высмотрит там, чтобы мужиков-хозяев не было дома, остались одни простоватые бабы. Он и товарец принес такой, какой любят бабы: яркие ленты, цветные платки и с травами, и с войной, с генералами. Женский глаз соблазняется: надо ему то, что видит. Не жалко того, чего дома много, да денег нет. Кулак не спесив: он согласен поменять ухо на ухо. Надо бабе деревянную чашку, красиво расписанную олифой и цветами, — насыпай полную чашку зерном и бери себе эту чашку пустую: чашка три копейки себе. бери ее за зерно, насыпанное на 20 копеек!
Про такие бабьи дела так и в песне поется:
Приехали торгаши за задние ворота,
Кобылушку продала, белил себе я взяла,
Коровушку продала, румян себе я взяла,
Одоньицо продала, сурмил себе я взяла.
Муж приехал с поля, с сохой, с бороною,
А я, млада, с печи с донцем, с гребнем,
С кривым веретенцем.
— Где, жена, корова?
— В стадушко протала,
Там ее волки серые съели.
— Тле же, жена, одонье?
— Одонье сгорело.
— Где же, жена, пепелок?
— Разнес, сударь, ветерок
На боярский на дворок.
Курочка по зернышку глотает — сыта бывает. Маклак по горсточке со двора, а пройдет по всей деревне, — у него не один мешок, а ворох, который на себе и не увезешь. Та же лошадка, что товар привезла, потащит теперь один только хлеб, да кстати и льну охапку, яиц сотен пять. Маклаку-кулаку все на руку, все это — дела доброй воли, и лишь торговля с первобытным приемом, как торговали при царе Горохе и как торгуют теперь с дикими инородцами. Называется такая торговля меновою: товар за товар, и деньги тут лишнее дело, не надобны. С деньгами тут еще, пожалуй, ничего и не сделаешь.
В таких местах деньги еще в землю прячут, зарывают, берегут: в оборот их, чтобы привели они другие деньги, там не пускают. Затем и выдуман базар, чтобы дело шло на чистоту. Базар деньги любит и деньги ценит. На базарах мужик продавец, а купец показывай ему мошну и кошелек: божбе там не верят. На базарах сами хозяева — корень, а хлеб — воротило: другие товары только подпевают и считаются мелочью, хлеб их затирает и всех шибче кричит. Базарам без хлеба мудрено выстаивать. Другое дело ярмарки, ще хлебам почти нет никакой чести. Там выступают на сцену разные товары другого сорта: красные железные, сохи, косули, серпы, косы, колеса, телеги, лошади, шерсть, — да всех и не перечтешь. На ярмарках больше торгуют сами купцы друг с другом, мелкие сельские покупают у богатых городских, чтобы развозить потом про крестьянскую нужду по мелким Торжкам, по зимним базарам. На базарах все-таки мужик главный и больше хлеб, чем что-либо другое. Здесь мужики торгуют сообща, прислушиваясь один к другому и поддерживая друг друга. Тут и кулак держи ухо востро. Вот почему, если в деревнях в кулацких плутнях только цветочки, на базарах ягодки.
На базаре в быстрых руках фокусника-кулака безмен шалит. На безмене по железному пруту намечены точки, означающие пуды и фунты. Ищет одну точку петелька, и если она проволочная, то верно находит и может встать прямо на точке. Да таких петелек не бывает в ходу: больше веревочные и еще хуже того — широкие ременные. На ременной петельке всеща точка прячется и плохо видна, всегда довольно походу и, разумеется, на руку того, кто держит безмен и проверяет купленное.
На купеческом дворе для приема хлеба с возу прямо в сусеки весы лажены дома и мужикам не показаны: полые гири далеко не настоящего весу ловко умеет подсунуть баловливая рука весовщика-кулака.
Да и при ссыпке в купеческую меру зернового хлеба, сумеет ли догадаться продавец о том, что если мера боками подойдет как раз под казенную точка в точку, то дно у ней может быть вогнуто, в эту яму и лишним горстям немудрено завалиться. И выйдет так, что воз мерками двумя-тремя стал короче.
И сам дома мерил, и сосед проверял: выходит — ей-богу, не так.
— Побоялся бы ты, хозяин, Бога!
— Чего мне бояться! Ты сам тут был, не лошадь же твоя глядела да поверяла.
— Отдай, сделай милость, назад хлеб мой!
— Укажи ты, сделай милость, теперь в моем сусеке — который твой хлеб: я тебе его отберу и отдам.
Станут спорить, браниться, да у кулаков горло шире мужичьего. Опытные крестьяне отстают, утешаясь тем, что ведь и кулаку кормиться надо. При этом всякому известен купеческий обычай не платить ничего тем рабочим, которые принимают от крестьян хлеб, и предоставлять им пользоваться недовесками и передержками. Горячие и смелые продавцы ищут суда: сегодня ищут, завтра правды дожидаются, а послезавтра, вздохнув из самой глубины сердца, сказывают вслед за отцами и прадедами; С сильным не борись, с богатым не судись!
Мерщик может быстро подхватить зерно концом лопатки и слегка подбрасывать в подставленную меру так, что оно ляжет, как пух: толкнуть меру ногой — зерно осядет вершка на два. Это один способ. По-другому может мерщик брать хлебное зерно полной лопатой и сыпать, что называется, ручьем: зерно ляжет очень плотно. Но самое тонкое искусство мерщиков состоит в том, чтобы снять гребком горку, всегда образующуюся на верху меры. Небольшое углубление составляет недостачу и, напротив, возвышение — излишек в весе, который, при приеме целыми возами, дает круглые цифры. Пробуют устанавливать здесь правду тем, что продавцы и покупатели хлеба выставляют своих мерщиков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: