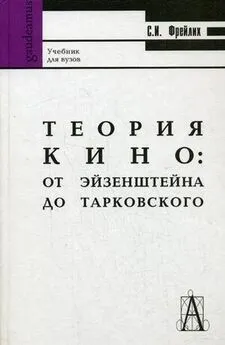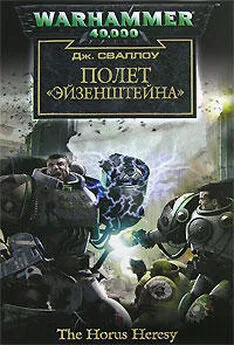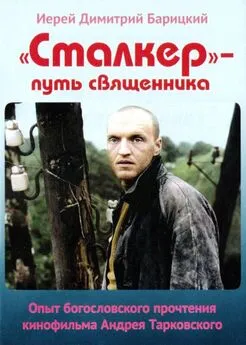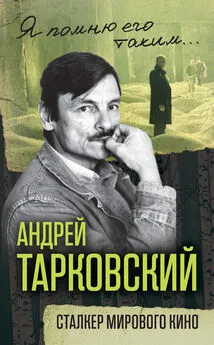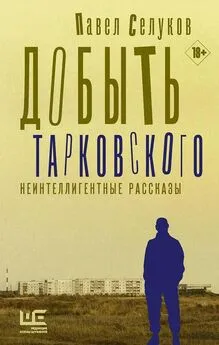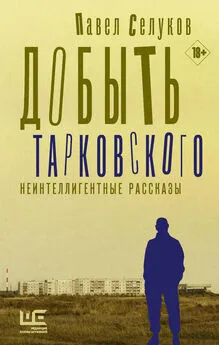С. ФРЕЙЛИХ - ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО
- Название:ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С. ФРЕЙЛИХ - ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО краткое содержание
ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сопоставляя две экранизации, мы противопоставляем здесь не художников, а разные моменты истории - благоприятные и неблагоприятные для развития кино. Разве и Пудовкин сам не ставит в этот неблагоприятный период фильм «Жуковский», относящийся к серии так называемых биографических фильмов, - какие поразительно неповторимые прототипы бескорыстно давала искусству отечественная история, но, увы, на экране личность нивелировалась, фильмы, срабатывались по единой, драматической концепции, отвечающей канонам времени.
Опыт создания советской киноклассики, в данном случае мы говорим о шедевре Пудовкина, имеет непреходящее значение. «Мать», созданная ограниченными средствами немого кино, доставляет нам и сегодня эстетическое наслаждение, и это говорит о том, что прогресс искусства и технический прогресс могут не совпадать. Сама ограниченность средств немой классики была источником органичности. Не было слова, - значит, надо было заставить звучать изображение. А разве не музыкален в картине пейзаж? Например, ледоход, с его нарастающим ритмом: мы не только видим эти устремленные весенним потоком глыбы льда, - мы слышим, как они ломаются друг о друга, а параллельно идет демонстрация, она тоже ширится, обрастая все новыми и новыми разъяренными людьми. Как жаль, что уже в наше время при озвучании картины композитор Т. Хренников заставил с экрана звучать уже реальные голоса людей, поющих «Вихри враждебные». Здесь нужен другой метод озвучания, чтобы не уничтожать художественную материю немой картины, умевшей говорить без слов. Звучащие слова ослабили мощь эпизода. У Пудовкина же ярость знаменитого эпизода достигалась приемом параллельного монтажа, - поток реки и поток человеческий должен соединить бежавший из тюрьмы Павел Власов: прыгая со льдины на льдину, он добирается до противоположного берега, чтобы войти в другой поток и оказаться во главе его со знаменем.
Революция стихийна, как этот поток.
Неестественна в картине фигура жандарма: он стоит на возвышении и к тому же снят снизу этот монументальный блюститель порядка; рассматривается он подробно: его начищенные сапоги, медали на выпяченной груди - эти подробности ироничны, они разоблачают ложную значительность власти.
Героиня же экспонируется согнутой над тазом с бельем; унижена она и когда после схватки с разбушевавшимся мужем собирает на полу колесики разбитых часов.
Сколько раз в учебниках по истории кино воспроизведены эти пронзительные моменты из фильма Пудовкина: городовой, снятый снизу: мать - сверху; ледоход; капли, падающие из крана? Потом эпигоны Пудовкина, недостаточно вникнув в смысл таких построений, повторяли их, но впечатления никакого не оставляли. Почему? Можно показать человека снизу, потому что, скажем, он стоит на балконе, а мы на него смотрим с земли; или, наоборот, сверху, потому что он стоит внизу, а мы, допустим, смотрим на него с балкона. Камера здесь фиксирует уже готовые состояния, ракурсы возникают по техническим причинам, камера находится за пределами события. У оператора Анатолия Головни, работавшего с Пудовкиным, тот или иной ракурс возникает лишь как момент в развитии зрительского восприятия. Схватив объект извне, камера тут же может оказаться уже внутри действия. Когда же аппарат введен в пространство кадра, а предметы показаны с точки зрения действующих лиц, точки зрения будут так же многообразны, как и взгляды актеров. Перемены точек зрения совпадают с переменами зрительной взаимосвязи между действующими лицами.
Здесь таится секрет, почему мы смотрим «Мать» с захватывающим интересом.
Мне могут возразить: разве дело не в содержании?
Конечно, в содержании; конечно, в игре актеров. Но вспомним, как играли актеры в картинах мастеров с навыками русского дореволюционного кино. Например, у Ю. Желябужского и в «Поликушке», и в «Коллежском регистраторе» (я умышленно беру хорошие картины, чтобы обнажить принцип) игру великого Москвина камера снимает с почтительной дистанции, - по существу, так, как стали потом снимать фильм-спектакль. У Пудовкина играют актеры МХАТа Н. Баталов, В. Барановская и взятые из реальной жизни типажные исполнители; они уравнены со средой, все элементы картины оказываются в одной эстетической системе, что и определяет новую целостность фильма.
Открытия основоположников советского кино были целенаправленны, изменили принцип изображения человека.
Если идеи истинны, каким бы расстоянием или временем ни были разделены люди, высказавшие их, идеи эти пересекутся когда-нибудь в нашем сознании.
Маркс, конспектируя «Эстетику» философа Куно Фишера, подчеркивает важную для него мысль: «Подлинная тема для трагедии - это революция». Неважно, знал эти слова Горький или не знал, но, обратившись к теме революции, он, как художник, улавливает глубинную связь судьбы своей героини с идеей «мировой трагедии». И если мы говорим о гениальной интуиции Пудовкина именно как художника, то имеем в виду, прежде всего то, как он понял идею нового для своего времени романа.
Для воплощения такого замысла Пудовкин, достойный ученик школы Кулешова, создает стабильный коллектив сотрудников.
С оператором Анатолием Головней Пудовкин еще до этого поставил «Шахматную горячку» и «Механику головного мозга», да и впоследствии все пудовкинские фильмы снимал Головня. Искусный практик, Головня был еще и педагогом, а также теоретиком, - лучшая среди его книг, думается, «Свет в искусстве оператора». Было бы интересно сопоставить, как ставил свет Головня, в отличие от того, как делали это, в свою очередь каждый по-своему, Тиссэ, Москвин, Демуцкий. Техническое освещение связано с трактовкой психологии человека, его поведения в определенной среде. Изображением среды Головня превращал место действия в типические обстоятельства независимо от того, что он снимал - натуру или декорацию, массовую сцену или отдельного человека. Каждое лицо, которое появляется в картине, мы надолго запоминаем - оператор доводит до предела характеристику лица, оказавшегося в кадре.
Лиц таких - рабочих, полицейских, черносотенцев, судебных чиновников - в картине множество, нашел их для съемки помощник режиссера Михаил Иванович Доллер. Он знал роман Горького наизусть, и если есть люди с исключительной музыкальной памятью, Доллер обладал памятью зрительной. Типажей для картины он выуживал всюду - на улице, в театре, в трамвае, - но не только типажей, он привел к Пудовкину и актрису Веру Барановскую, исполнившую главную роль в картине. Преданность искусству у Доллера была самоотверженной. Уже забыт случай, происшедший во время съемок ледохода. Льдины были рыхлые, бежать по ним, перепрыгивая через полыньи, было опасно, и Н. Баталов, игравший роль Павла, не решался на это. Срочно вызвали каскадера, но и он, увидев поток льдин, отказался. Уходила натура, срывалась главная, может быть, сцена фильма, и тогда Доллер, надев на себя костюм заключенного, спустился к реке и побежал, прыгая с льдины на льдину. Именно он и снят в знаменитой сцене картины «Мать». В следующих картинах Доллер стал сорежиссером Пудовкина, хотя по нынешним понятиям он, актер театра и кино, тонко чувствующий драматургию, должен был наверняка потребовать самостоятельной постановки, а потом, завладев местом у камеры, почему бы и сценарий самому себе не написать. В группе Пудовкина каждый делал то, что должен был делать, и не делал того, чего не умел.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: