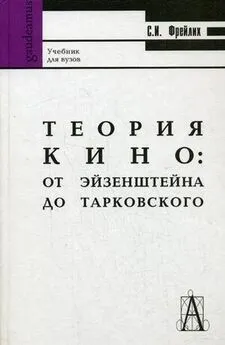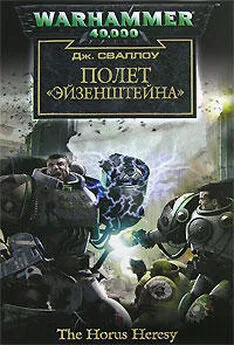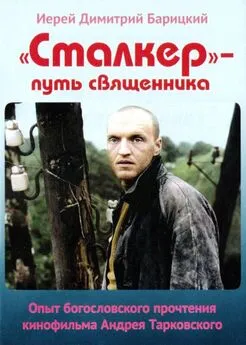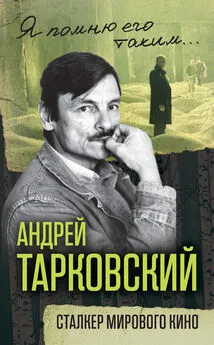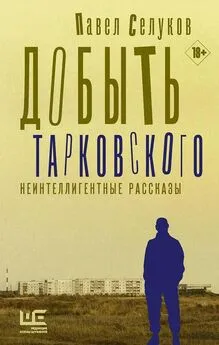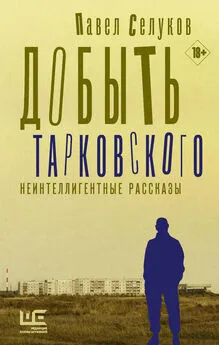С. ФРЕЙЛИХ - ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО
- Название:ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С. ФРЕЙЛИХ - ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО краткое содержание
ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И если классика была связана с ситуацией всеобщей смены старого мира новым, то современное кино углубляется в противоречия, возникающие в самой новой действительности. Искусство разгадывает эти ситуации, предает гласности скрытое в них до времени несовпадение сущности и явления.
Современный фильм по сравнению с классическим как бы незавершен.
[1] Лазарев В.И. Микеланджело // Микеланджело. Поэзия. Письма. Суждения современников.- М.: Искусство, 1983.- С. 21.
Впрочем, в классике тоже встречаются произведения, кажущиеся специально незаконченными. Например, у Микеланджело статуя Мадонны, изваянная для Капеллы Медичи, была не закончена, фигура Христа лишена полировки, по поводу чего Л. Лазарев замечает: «И здесь мрамор, местами глубоко обработанный, а местами и совсем сырой, обладает такой благородной фактурой, что «незаконченность» невольно воспринимается как сознательный прием великого скульптора, умевшего ценить красоту «дикого камня»[1].
Уже как сознательный прием Мейерхольд в одном из своих спектаклей обнажает в декорации часть задника, чтобы зритель видел каменную стену театра, соединяющую спектакль с жизнью.
Прием незавершенности встречается в самых различных ипостасях.
В драматургии это проявляется в новом способе развязки действия. Привычная структура как бы перевернута, и мы можем увидеть обратную сторону предмета. Тип развязки «Чапаева», «Мы из Кронштадта», «Ленина в Октябре», «Александра Невского», «Щорса» сегодня не встречается. В картинах «Шестое июля», «Никто не хотел умирать», «Первый учитель» развязки являются одновременно завязками новых драм. Новый мир уже познан не как идея, а как новое сущностное противоречие. Форма постоянно зависит от меняющейся исторической ситуации. Еще десять лет назад невозможен был такой способ развязки, как мы видим, с одной стороны, в трагической картине «Защитник Седов» (сценарий М. Зверевой, режиссер Е. Цимбал), с другой - в фарсовом фильме «Бакенбарды» (сценарий В. Лейкина, режиссер Ю. Мамин). В том и в другом случае развязка не развязывает действие, а опрокидывает, опровергает его, ибо перемены в изображаемой жизни мнимые, в том и в другом случае все возвращается на круги своя лишь в худшем варианте. Такого рода произведения стали возникать в результате осознания обществом не только противоположности предыдущей формации, но и собственного перерождения.
Незавершенность формы есть именно прием, а не несовершенство. Скажем еще раз, как это проявляется в результате несовпадений сущности и явления в искусстве актера. В свое время режиссер А. Столпер всех поразил, взяв на роль комдива Серпилина в «Живых и мертвых» актера А. Папанова, известного до того исключительно ролями сатирического плана. Риск был оправдан, и это имело последствия в нашем кино. А еще раньше новый подход к выбору самого героя показали «Летят журавли» М. Калатозова и «Судьба человека» С. Бондарчука. Поступки героев этих фильмов были нетипичны для положительного героя в традиционном смысле его понимания. Изображение человеческой жизни в момент непредсказуемого, трагического поворота судьбы повлекло за собой важнейшее открытие в искусстве кино. Это были открытия стиля, относящиеся к эпохе звукозрительного кино, синтезирующего приемы двух предшествующих этапов - немого и звукового.
Приведем пример нарушения классического соответствия актера и роли. Одна из трудностей, которые испытал Ю. Герман с картиной «Двадцать дней без войны», - это Юрий Никулин. Режиссер снял клоуна в главной драматической роли, за которой угадывается сам автор экранизируемой повести К. Симонов, и писатель поддержал такой выбор. Это был принцип. Как было принципиальным в «Проверке на дорогах» снять Р. Быкова в роли командира партизанского отряда Ивана Локоткова. В нем решительность и хитрость Чапаева, но перед нами он появляется не в ореоле всадника в развевающейся бурке, а в землянке, отпаривающим в тазу больные ноги. Снижение героя? Нет, очищение классических традиций от штампов, затиражировавших всем известный кадр. К известному уже типу героя подобран другой ключ.
В картине «Мой друг Иван Лапшин» в решающих сценах герой оказывается к нам спиной, это же мы видим и в телевизионном фильме «Архангельский мужик» А. Стреляного и М. Голдовской. Центральный диалог автора и героя снят на движении - они удаляются от нас в глубину кадра, человек не снимается «в лоб», мы не видим, его лица, фигуры как бы не дорисованы, их разговор о нарушении нравственной экологии ложится на пейзаж, и это волнует, потому что все прекрасное, так или иначе, страдает из-за неразумных человеческих поступков.
Еще совсем недавно представители нормативной эстетики хмурили брови от самого сочетания слов «современный стиль». И это происходило по двум причинам.
Согласиться с существованием современного стиля - значит потакать противопоставлению так называемого новаторства традициям, которые следовало охранять от покушений слишком радикальных новаций. Более всего остерегались провести разграничительную линию между 20-ми и 30-ми, а между тем именно сопоставление 20-х годов с 30-ми, а потом в свою очередь 30-х и 50 - 60-ми показывает, как кино на этих рубежах менялось, да так, что кажется, словно оно дважды меняло кожу. Немое кино 20-х годов так же отличается от звукового 30-х, как они вместе от современного звукозрительного кино, начавшегося на рубеже 50-60-х годов. Эти моменты составляют триаду, и,, как в таких случаях бывает, первый и третий между собой ближе, чем каждый из них с промежуточным - вторым. Звукозрительное кино синтезировало пластику немого и звукового кино тридцатых. Через такие периоды прошло все мировое кино, и здесь лежит вторая причина предубеждения против понятия «современный стиль». Признать современный стиль - значит, согласиться с идеей «единого потока», идеей компартивизма, считавшейся в условиях духовной изоляции, в которой мы пребывали в годы культа личности, а затем в период застоя, глубоко порочной. А между тем непредвзятый взгляд легко заметит в каждом периоде мирового кино сходные в эстетическом плане явления. Немое кино 20-х годов: «Нетерпимость» Гриффита, «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна, «Алчность» Штрогейма, «Страсти Жанны Д'Арк» Дрейер, «Последний человек» Мурнау; звуковое кино 30-х: «Чапаев» Г. и С. Васильевых и «Вива, Вилья!» Конвей; современное кино: «Земляничная поляна» Бергмана, «Расемон» Куросавы, «Назарин» Бунюэля, «Хиросима, любовь моя» Рене, «Восемь с половиной» Феллини, «Андрей Рублев» Тарковского, «Евангелие от Матфея» Пазолини, «Mapкета Лазарова» Влачила. Эти картины принадлежат одному времени, в них очевидно стремление выразить пластически невидимое, таящееся в глубинах чувств и сознания, столкновение веры и неверия, духовности и цинизма; ответить на мучительный вопрос о смысле жизни, понять причины отчуждения человека.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: