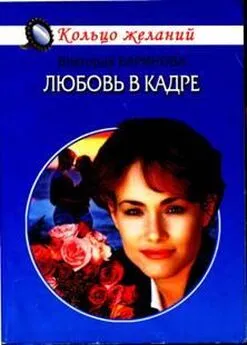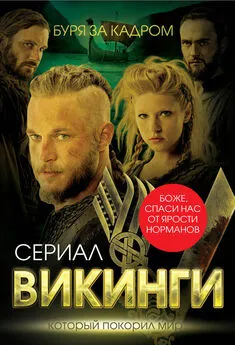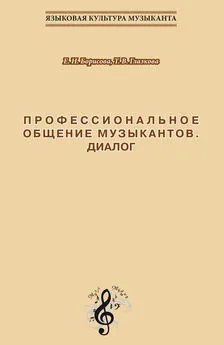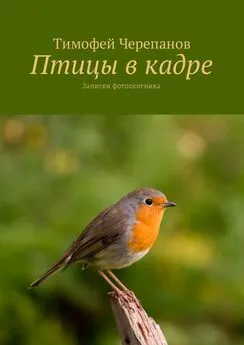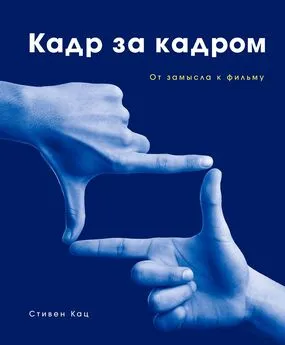С. Муратов - ДИАЛОГ: ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОБЩЕНИЕ В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ
- Название:ДИАЛОГ: ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОБЩЕНИЕ В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С. Муратов - ДИАЛОГ: ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОБЩЕНИЕ В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ краткое содержание
ДИАЛОГ: ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОБЩЕНИЕ В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Господин майор, если попытаться сравнить между собой события 1941-го и события в Конго 1964-1965 годов, то можно ли сказать, что вы остались верны своим идеалам?… Существует ли связь между этими событиями?»
«Я сказал бы, что единственная связь - это антикоммунизм. Потому что тогда, более двадцати лет назад, я сражался за великую национал-социалистскую Германскую империю, а сегодня я воин свободного Запада».
Нацист, гордящийся тем, что всю свою жизнь посвятил борьбе с коммунизмом, представления не имел, что присутствует не па акте признания его героической деятельности, а, скорее, на судебном процессе, на следствии, каким становится этот фильм-интервью.
Заповедь шестая: а интересен ли ваш вопрос?
Хотя знание перечисленных правил и помогает интервьюеру в работе, само по себе оно, конечно, не служит гарантией, что диалог на экране приоткроет телезрителю что-то новое. Например, спрашивая: «Каковы ваши планы на будущее?» - журналист не нарушает ни одну из перечисленных заповедей. Тем не менее собеседник сразу же понимает, что такое общение предполагает обмен лишь самыми расхожими фразами. Больше того, отвечая всерьез, он рискует предстать на экране тем самым занудой, который, услышав вопрос «Как живешь?», начинает рассказывать, как он живет.
Встречу с директором одного из польских научно-исследовательских институтов журналистка начала так: «Не могли бы вы объяснить мне, почему ваш институт называется Институтом матери и ребенка, а не отца, матери и ребенка? Что случилось с отцом, директор?»
Вместо набивших оскомину «Почему вы решили выбрать эту профессию?» или «Чем привлекает вас ваша работа?» можно предложить поразмышлять: «Кем бы вы стали, если бы не стали хирургом?…», «Если бы можно было начать сначала, вы бы опять пошли в машинистки?» Собеседница ответит, положим, что работает по специальности уже двадцать лет и нисколько не жалеет о выборе. «А что бы вы сказали, если бы наш разговор происходил двадцать лет назад?»
Готовясь к интервью на тему «Размышления о времени», одна из студенток факультета журналистики МГУ наметила, в частности, такие вопросы: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!… Какое мгновенье своей жизни вы хотели бы остановить?», «Какие ассоциации у вас вызывает звонок будильника?», «По каким часам вы хотели бы жить (по песочным, солнечным, электронным…)?», «Представляете ли вы себе жизнь без часов? Какова она?», «Сколько времени в году вы отвели бы на отпуск, будь это в вашей власти?», «О чем, по-вашему, думает маятник, когда часы вдруг остановятся?», «Вспомните о самой долгой и самой короткой минуте вашей жизни», «Если в толковом словаре против слова «время» оказалось бы вдруг пустое место, какое определение вы бы туда вписали?», «Представьте себе, что в сутках появился еще один, двадцать пятый час. Какое применение вы бы ему нашли?»
Игровые методы обучения развивают у будущих журналистов умение небанально подходить к теме предстоящего разговора, отыскивать наилучшие варианты вопросника. Они начинают понимать, что в любую тему можно (а иной раз и лучше) войти, минуя парадный подъезд.
Понимание того, что умение спрашивать - тоже искусство, можно извлечь даже из наблюдений за детьми. Трехлетний сын вбегает в кабинет отца: «Папа, ты не знаешь, где моя кисточка?» - «Мы же договорились, что ты будешь стучать, когда входишь. Откуда мне знать, куда ты дел свою кисточку?» Вскоре раздается робкий стук, и в кабинет просовывается голова: «Папа, я все обыскал. Ее нигде нет». «Я не видел твоей кисточки»,- терпеливо отвечает отец. Не прошло и нескольких минут, как дверь приоткрывается снова: «Папа, а когда ты был маленьким, ты любил рисовать?» - «Любил».- «И у тебя были краски?»- «Были».- «И кисточка была?» - «И кисточка». «Папа,- обрадованно восклицает сын,- а ты не помнишь, куда ты ее положил?!»
«Где вы отыскиваете таких разговорчивых собеседников? Что ни слово - находка. В чем тут секрет?» - спросили однажды известного телеинтервьюера. Тот только пожал плечами. «Мои собеседники те же, что и у вас, а хотите получить интересный ответ - поломайте голову над интересным вопросом».
ПРИТЧА О МОЦАРТЕ
Чем умнее человек, тем больше своеобычности он находит во всяком, с кем сообщается.
Б. Паскаль
В экранном диалоге участвуют три стороны: журналист, собеседник и телезритель. Но ответственность за исход разговора - повторим еще раз - всегда несет журналист. Он ведь может и не спросить о том, о чем хотел бы рассказать собеседник. Или о чем хотел бы услышать зритель. Именно это и происходит, когда интервьюер нарушает закон триады.
Соглашаясь на участие в передаче, любой человек исходит из каких-то своих мотивов, и журналист невольно обманет его ожидания, не предоставив возможности высказать мысли наиболее важные. С другой стороны, мало кому из зрителей выпадает удача встретиться лично с крупнейшим ученым, известным актером, героем труда. А значит, не приняв в расчет интереса аудитории к этим людям, журналист рискует обмануть и ее ожидания.
Закон триады диктует очередность задач, стоящих перед интервьюером. Первый круг вопросов - о чем хотел бы сказать собеседник. Затем - о чем хотели бы у него спросить телезрители. И, наконец, те из вопросов, обусловленных целью интервью, которые не вошли в предыдущий перечень (в том числе и вынуждающие партнера, если этого требует ситуация, заговорить о том, о чем сам он предпочел бы, вероятно, промолчать).
Триада предопределяет не только общее содержание, но нередко и форму экранного разговора.
Намечая тему и круг вопросов, ведущий популярной «9-й студии» В. Зорин каждый раз оговаривает с участниками цели и характер предстоящей беседы. Передача не предусматривает репетиций. «Я убежден,- поясняет В. Зорин,- что, если бы мы репетировали, «9-я студия» потеряла бы одно из главных своих, достоинств - публичное мышление, элемент импровизации. Больше того, иногда я задаю участникам передачи неожиданные вопросы, о которых во время предварительного обсуждения не было и речи… Ведь неожиданный вопрос, заданный крупному специалисту, не может поставить его в тупик, - но он может заставить его задуматься. И тогда на передачу «работает» все: жесты, мимика выступающего».
Ежемесячная эстонская телерубрика «В кабинете министра» в течение многих лет начиналась по традиции в приемной министерства, где репортер знакомил аудиторию с краткой биографией собеседника (листок-анкету секретарша вынимала из пишущей машинки прямо на глазах у телезрителей). Первые десять минут отводились темам, затронуть которые просил министр: популярная телерубрика - трибуна, которой общественный деятель не вправе пренебрегать. Темы оговаривались заранее, непредвиденными для собеседника оставались формулировки вопросов. Вторые десять минут журналист предлагал вопросы, подготовленные им самим, а также отобранные из зрительских писем. В течение заключительных десяти минут министр отвечал на телефонные вопросы, заданные по ходу самой передачи (номер указывался на экране). Эта часть беседы была особенно острой: министр оказывался перед публикой один на один.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: