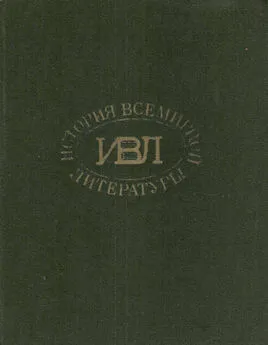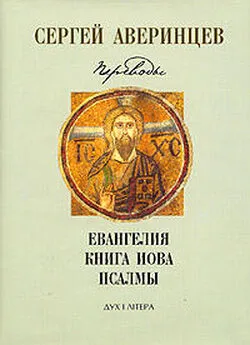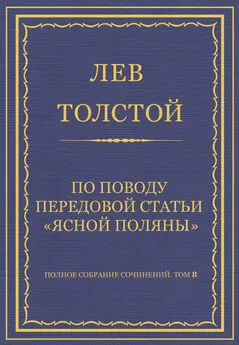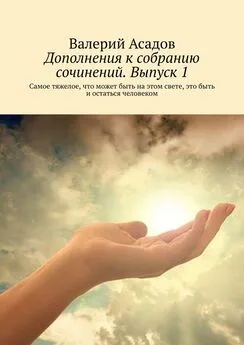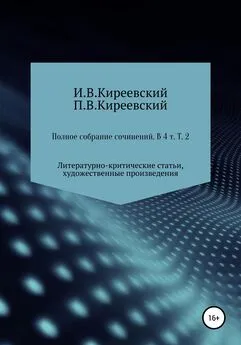Сергей Аверинцев - Статьи не вошедщие в собрание сочинений вып 2 (О-Я)
- Название:Статьи не вошедщие в собрание сочинений вып 2 (О-Я)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Аверинцев - Статьи не вошедщие в собрание сочинений вып 2 (О-Я) краткое содержание
В сборник включены статьи
Обращение к Богу советской интеллигенции в 60-70-е годы
Опыт петербургской интеллигенции в советские годы — по личным впечатлениям
Попытка говорить спокойно о тревожащем
Послесловие к энциклопедическому словарю
Похвальное слово филологии
Поэзия Хильдегарды Бингенской (1098-1179)
Поэтика ранневизантийской литературы
Премудрость в Ветхом Завете
Путь Германа Гессе
Ритм как теодицея
Риторика и истоки европейской культурной традиции
Риторика как подход к обобщению действительности
РОСКОШЬ УЗОРА И ГЛУБИНЫ СЕРДЦА ПОЭЗИЯ ГРИГОРА НАРЕКАЦИ
Символика раннего средневековья
Сквозь разломы оконченной жизни
Смысл вероучения и формы культуры
Солидарность поколений как фактор гражданской свободы
Судьба и весть Осипа Мандельштама
Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от Античности к Средневековью
Так почему же все-таки Мандельштам
Тоталитаризм ложный ответ на реальные вопросы
Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России
Цветики милые братца Франциска
Честертон, или Неожиданность здравомыслия
Эволюция философской мысли
Статьи не вошедщие в собрание сочинений вып 2 (О-Я) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Традиционная характеристика московской культуры при взгляде из Питера — легкомыслие, “распущенность”. Сами собой вспоминаются строки Кушнера:
Да ну гитара, право,
Засученный рукав.
Любезная отрава,
Поставь ее за шкаф.
Пускай на ней играет
Григорьев по ночам,
Как это подобает
Разгульным москвичам...
Вспомним, как Дмитрий Святополк-Мирский, одним из первых оценивший масштаб поэзии Марины Цветаевой, писал, однако, о ней: “Московская (сказать ли?) распущенность в каждом движении ее стиха”1.
Напротив, петербургская культурная традиция была уже давно ориентирована на дисциплину, на абсолютные мерила; тот же Мирский в 1922 году говорил о Петербурге как “столице Культуры Вечности” и отмечал “математичность и дисциплину” как особенность петербургской поэзии2. Особенно тяжелая судьба носителей петербургской культуры в советское время отнимала иллюзии; заодно такая судьба неизбежно ослабляла и здоровую потребность в живой оглядке на своих современников, в любом случае усугублялись унаследованные свойства вышеназванной “Культуры Вечности”.
Поиски опоры в возможно большей твердости культурных парадигм гарантировали у лучших представителей оппозиционной питерской интеллигенции особый пафос профессиональной добросовестности (я еще раз подчеркиваю, что сравниваю порядочных москвичей с порядочными питерцами, мысленно выбирая лиц для сравнения по признаку сопоставимого морального уровня, чтобы процедура сравнивания не потеряла смысла).
В качестве специалиста по классической филологии должен сознаться, что уровень этой добросовестности был у тех питерских филологов, которые были правомочными хранителями старой традиции, существенно выше, чем у их московских коллег, даже наиболее достойных и порядочных.
В глазах лучших среди наших московских наставников читалась печально-ироническая оглядка на реальность сегодняшнего дня... и неизбежная попытка отмерить, чтбо при данных обстоятельствах еще можно (и должно!) сделать, а на какие прежние устои следует махнуть рукой. В Питере еще можно было встретить настоящих жрецов науки, которые казались людьми иной породы, последними гражданами затонувшей Атлантиды, и в них ощущалась решимость ригористически соблюдать законы этой Атлантиды до конца своих дней и вопреки всему. Если в Москве времен нашей молодости одна нонконформистски-порядочная, всесторонне образованная и творчески одаренная представительница старшего поколения (имени которой я не назову, ибо она заслужила, чтобы о ней говорили в ином контексте) могла, однако, сваливать составление научного аппарата к своим по долгу службы написанным статьям на свою ученицу и младшую сотрудницу, — старые питерцы сравнимого с ней морального и культурного уровня вели себя совсем, совсем иначе.
Питерец Бродский (о котором мне еще придется говорить) воспел — на поверхности иронично, в глубине совершенно серьезно — “собачью” доблесть петербургской культуры советских лет:
...И что им этот безобразный дом!
Для них тут садик, говорят вам — садик.
А то, что очевидно для людей,
собакам совершенно безразлично.
Вот это и зовут: “собачья верность”.
Оборотная сторона ориентации на незыблемые парадигмы — жесткость, плохо совместимая и с творческой продуктивностью, и с толерантностью. Постараюсь привести примеры того и другого.
К вопросу о продуктивности: когда шел теоретический спор между московской и питерской школами литературного перевода, по большей части трудно было не признать правоту питерцев, — но в практической деятельности москвичи чаще побеждали, ибо литературный перевод требует диалогического контакта как с переводимым автором, так и с возможным читателем. Переводчик не должен подлаживаться к читателю, но он должен видеть этого читателя, должен смотреть ему в глаза... Мне кажется, что вот это москвичам удавалось лучше; впрочем, я могу быть пристрастен — ведь я сам стихотворный переводчик московской школы!
А теперь к вопросу о толерантности — вот каков был мой опыт, опыт легкомысленно миролюбивого москвича. На каждой научной конференции по классической филологии я спешил первым делом приветствовать некоторых глубоко уважаемых мною питерских наставников; и почти сейчас же на мою почтительную голову обрушивались их гневные восклицания: “Нет, как вы можете говорить с этим ужасным человеком?” — это один мой наставник сурово осуждал меня за общение с другим (в тех же выражениях, что этот другой — за общение с ним).
А я не мог не чтить каждого из них: скажем, Аристида Ивановича Доватура — за незыблемую верность строжайшей филологической парадигме времен Виламовица-Мёллендорфа (Wilamowitz-Moellendorff), а Иосифа Моисеевича Тронского3 — за живую чуткость к более новым исследовательским парадигмам литературоведения и языкознания. Я не мог не испытывать человеческого уважения к страданиям, испытанным Доватуром в ГУЛАГе, — и, в конце концов, к порядочности Тронского, скажем, по причине своих лаицистских убеждений приходившего в настоящую ярость по поводу моей христианской позиции и выражавшего эту ярость мне лично, однако строжайше воздерживавшегося от каких бы то ни было публичных высказываний, которые в советских условиях были бы доносом (а также опровергнувшего однажды одну из частных исторических версий советского атеизма просто по верности своему долгу эксперта по филологическим вопросам). Да ведь и научная судьба Тронского находилась, как у многих питерцев, в вопиющем несоответствии его знаниям, таланту и трудолюбию, так что какая-то доля сострадания примешивалась к моему респекту и в его случае. Возвращаясь к конфликту, скажу, что дело не обходилось уж совсем без политики: Тронский был в глазах Доватура все же слишком марксистом, Доватур в глазах Тронского — чуть ли не средоточием одиозной старорежимности; однако важнее всего было столкновение именно научных и общекультурных парадигм, как нынче говорят — clash of civilisations. Два человека, для которых их наука была дороже и важнее всего, ненавидели друг друга за различное понимание идентичности этой науки. А мне вспоминались стихи Брюсова о том, как ведут себя немногие, кто остался в живых “из славного племени / многомощных воителей, плывших под Трою”, из героического поколения:
...И когда мы порой, волей рока, встречаемся,
Мы, привыкшие к жизни средь малых, бесславных, —
Как враги друг на друга, грозя, ополчаемся,
Чтоб потешить наш дух поединком двух равных!
Но я хотел бы подчеркнуть, что сама эта несносная нетерпимость была оборотной стороной истинно питерской героической отчетливости парадигм.
Недаром же питерец Мандельштам клял “всетерпимость”, называя ее “пся-кровь”, и настаивал на том, что филология должна быть “вся кровь, вся нетерпимость”. Что ж, филологи Доватур и Тронский воплощали, каждый по-своему, этот очень питерский императив.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: