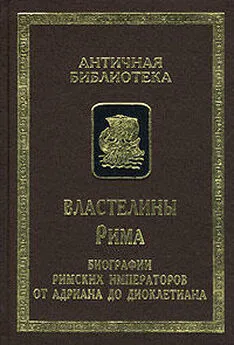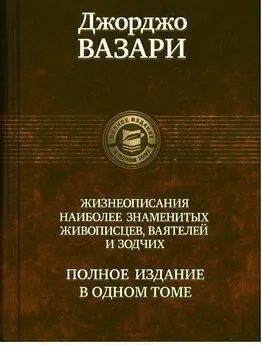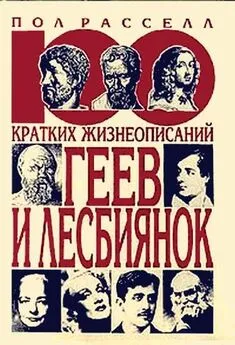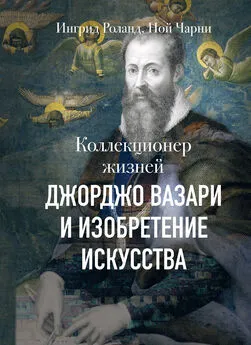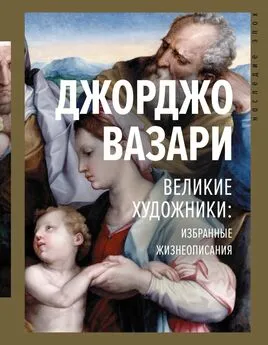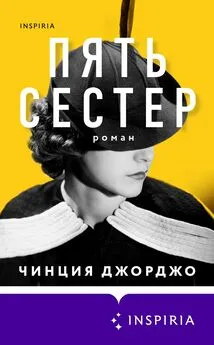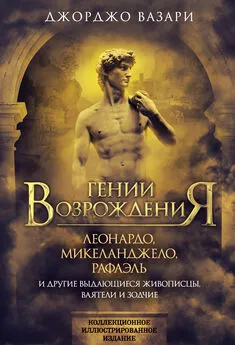Вазари Джорджо - 12 Жизнеописаний
- Название:12 Жизнеописаний
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вазари Джорджо - 12 Жизнеописаний краткое содержание
Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев ваятелей и зодчих. Редакция и вступительная статья А. Дживелегова, А. Эфроса. – Ростов н/Д изд-во «Феникс», 1998. – 544 с.
Книга, с которой начинаются изучение истории искусства и художественная критика, написана итальянским живописцем и архитектором XVI века Джорджо Вазари (1511-1574). По содержанию и по форме она давно стала классической. В настоящее издание вошли 12 биографий, посвященные корифеям итальянского искусства. Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Микеланджело – вот некоторые из художников, чье творчество привлекло внимание писателя. Первое издание на русском языке (М; Л.: Academia) вышло в 1933 году.
Для специалистов и всех, кто интересуется историей искусства.
12 Жизнеописаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С одной стороны, он сугубо почтителен к естественным и точным наукам и умеет посвящать страницы и страницы опытам художников, стремящихся овладеть законами перспективы, механики, анатомии, строения растений и т. п.; с другой – он пропитывает эти страницы ядом, и облик естествоиспытателя Уччелло и даже Леонардо кривится и зыблется под тайным осуждением, которое скоро у зрелых маньеристов, в разгар реакции, среди воли мистицизма, будет уже открыто говорить о том, что божественно-осененному искусству, вдохновенно стоящему перед божественно-оформленной природой, наука не к лицу, вредна и срамна. Что у Вазари на уме, то у Цуккари на языке: в «L'Idea dei pittori, scultori ed architetti», которая вышла в свет спустя четверть века после смерти Вазари, Цуккари решается уже прямо написать о Леонардо, что тот был «pur valent'uomo di professione, ma troppo sofistico anch'egli in lasciare precetti pur matematici a movere e torcere la figura con linee perpendicolari con squadre e compassi» – «очень достойный человек по своему мастерству, но слишком рассудочный в отношении применения правит математики для передачи движения и поз фигуры при помощи линейки, наугольника и циркуля», ибо «queste regole matematiche si devono lasciare a quelle scienze e professioni speculatori della geometria, astronomia, arifmetica e simili, che con le prove loro acquietano l'intelletto; ma noi altri professori del Disegno, non abiamo bisogno d'altre regole, che quelle che la Natura stessa ne da, per quella imitare» – «все эти математические правила надо оставить тем наукам и отвлеченным изысканиям геометрии, астрономии, арифметики и тому подобным, которые опытами обращаются к рассудку; мы же, мастера Искусства, не нуждаемся ни в каких других правилах, кроме тех, которые дает нам сама Природа, чтобы отобразить ее».
Существо вазариевских противоречий вскрывается социологической формулой: перерождения цехового художника позднего Возрождения в придворного мастера раннего маньеризма. В этом процессе, болезненном и трудном, свободный ремесленник оказывается в Вазари зачастую сильнее служивого челядинца от искусства. На языке истории искусств это говорит, что остатки Ренессанса берут верх над ростками маньеризма. Вазари выступил на арену как раз в те критические годы, которые обозначили последнюю границу «zwis- hen der Renaissance und der Reaction, dieals Epoche der Gegen reformation im geschichtlichen, als Epoche des Manierismus im kunstgeschichtlichen zu bezeichnen ist», – «между Возрождением и реакцией, в годы, которые должны быть названы в историческом отношении эпохой контрреформации, а в историко-художественном – эпохой маньеризма» (N. Pevsner, op. cit). Вазари так и остался до конца этим человеком «пограничной черты». Новые отношения тащили его вперед, но он шел за ними, оглядываясь и нередко сопротивляясь. В этом числе «Vite» представляют собою отчетливейшее выражение великого кризиса чинквеченто, отраженного с точки зрения одолеваемого, но еще борющегося Ренессанса. В этом кроются отличия обоих изданий «Vite», раннего и позднего; этим обусловлены противоречия внутреннего состава книги: языка, стиля, оценок, суждений, общих концепций. У каждого из двух социально-художественных типов, совместившихся и Вазари, есть здесь своя собственная часть. Она выявляется без натяжек и насилий, ибо нет ничего показательнее для социологических атрибуций, нежели люди и произведения эпох кризиса. Все обнажено и все явно. Ремесленник, еще помнящий вольности и силу цеховой демократии, человек массы, который столько же может еще менять заказчика по выгоде и охоте, как и пробивать себе путь наверх, к одному из мест коллективной власти, принес в «Жизнеописания» свой народный язык, образы несложного быта, простоту оборотов речи, вкус к анекдотам и пересудам, незамысловатое злословие и похвалы, охоту к непочтительности и дерзости в отношении вышестоящих и власть имущих; нигде Вазари так не живописен и не ясен, как в обработке этих кусков «Vite», – настоящий флорентийский цеховой, судачащий на площади! С другой стороны, ничто так не пышно-пусто, трудно выведено и трудно читаемо, как «Посвящения», которые Вазари адресует папе или Медичи, и «Введения», которыми он декорирует отдельные биографии; это настоящая речь свежеиспеченного царедворца, со старательными поклонами, негибко изогнутом спиной, нарочита церемониальными интонациями, построенная в периодах, нагромождающих отвлеченности вместо понятий и роскошествующая обилием слов за счет важности мыслей, – истинное мучение слушателей этого придворного Вазари, стремящегося в погоне за чинами и выгодами прилепиться к богатейшему из господ в качестве художественного чиновника его, государевой, канцелярии. Оба стиля синтезируются в «Proemia» – «Предисловиях» к отдельным частям «Vite», достаточно простых по языку и сложных по системе изложения, являющихся подлинно гуманистическими кусками книги. В них Вазари дан по своему «среднему социальному разрезу».
Это же распределение обусловленностей наличествует в борьбе «природного» и «прекрасного» вазариевской эстетики naturale со всеми своими производными от общего положения, что искусство есть imitazione della natura, до натуралистического анекдота о Донателло, принадлежит мастеру Ренессанса; наоборот, вазариевское «bello» – художнику маньеризма. Противоречие пытается найти разрешение в эклектической формуле «наипрекраснейшего в природе», а большая четкость требований и мерил «правдоподобия» сравнительно с «красотой» снова свидетельствует о перевесе старого над новым. Это проявилось и в том, что у общей схемы художественного прогресса трех «eta», типичной для оптимистического мироощущения Возрождения, оказалась в виде простого привеска современность, которую придворный маньерист счел достаточным незатейливо присоединить, лишь бы отодвинуть явления кризиса за пределы своего служебного формуляра.
Точно так же пресловутый «тосканизм» Вазари, делающий Флоренцию и Рим центром истории искусства, выражает локальную ограниченность цехового человека, тогда как внимание позднего Вазари, времен второго издания «Vite», к североитальянской и даже зарубежной, фландрской, живописи обусловлено расширившимися горизонтами придворного, приобщившегося к вопросам дипломатической игры и вооруженной политики; и здесь опять-таки оговорки и недоумения Вазари перед типическими свойствами венецианской живописи, его попреки Тициану говорят все о том же непреодоленном флорентийско-римском возрожденчестве. Это проявляет себя и с другого конца: позицией Вазари в отношении наиболее определившихся и замечательных маньеристов. Он способен на похвалы средней выразительности Сальвиати или Вольтерра, но он ничего не понимает («so gcnzlich verstandnislos», N. Pevsner) в маньеристических новшествах Понтормо, основного мастера течения, и говорит поносные слова по адресу единственного гения маньеризма – Тинторетто, который якобы «зашел за пределы несуразности и со странностями своих композиций и чудачествами своих фантазий, выполненных, как придется, и без плана, словно бы он нарочито хотел показать, что живопись – пустая вещь. Последний бунт эпигона классицизма против новшеств надвигающегося барокко! Наконец, важнейшее различие между изданиями 1550 и 1568 годов отражает процесс перерождения напором историзма на новеллистику первой редакции «Vite», а возрожденческое сопротивление маньеризму сожительством, которое Вазари обеспечил старым элементам книги рядом с новыми.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: