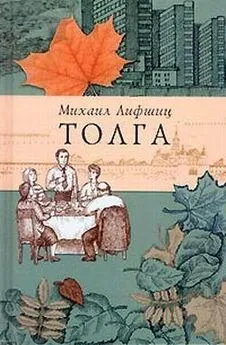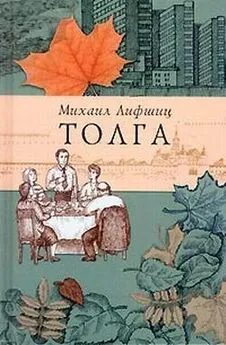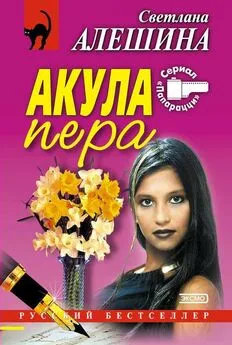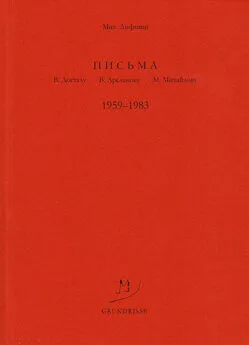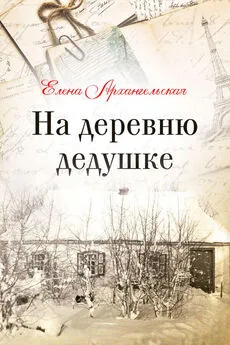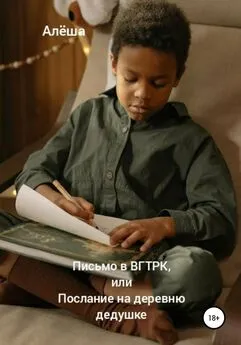Михаил Лифшиц - На деревню дедушке
- Название:На деревню дедушке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Лифшиц - На деревню дедушке краткое содержание
Работа известного советского философа–марксиста Михаила Лифшица «На деревню дедушке» была написана в первой половине 60–х, но не была пропущена цензурой. Этот маленький шедевр очень необычный по форме изложения для марксистской литературы был напечатан лишь в 1990 году ротапринтным способом тиражом 300 экземпляров.
На деревню дедушке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Серьезное и смешное связаны крепким узлом в самой жизни. И пусть вас это не смущает, любезный Константин Макарыч. Гоните прочь глупые предрассудки! Ведь пионеры нашего великого дела были веселые богатыри — они презирали тупую, чугунную серьезность, мещанскую чопорность, чуждую психологии трудящегося человека.
Так что не ставьте мне в вину шутливый тон этого послания. Сам Державин истину царям с улыбкой говорил. В стихах, конечно. Ну, а так как у нас царей, слава богу, нет, то можно и в прозе.
Прощайте, милый дедушка! Не забывайте меня, старый друг, ведь я вам через И.Жукова прихожусь дальним родственником.
Итак, лети, мой пламенный привет. Лети туда, куда мне надо, откуда буду ждать ответ!
Письмо 3
25 октября 196…г.
Милый дедушка, Константин Макарыч! Я живо представляю себе, как в ясный солнечный день вы стоите у ворот правления колхоза «Луч» и, согласно всей литературной традиции, обмениваетесь шутками с женским полом. А в это время местный работник связи, по—старому почтарь, вручает вам мое толстое и нескладное письмо. Вы медленно протираете очки в оловянной оправе и с досадою видите, что я жалуюсь вам на А.Дымшица, который снова хочет завладеть селедочным хвостом и сапожной колодкой для наведения порядка. Помилуйте, да кто же теперь обращает на это внимание? Это все вздор, об этом и думать и писать не стоит. Согласен, милый дедушка, согласен, но погодите, может быть, мы с вами еще дойдем до более серьезных вопросов.
По словами А.Дымшица, мой взгляд приводит к «отрицанию художественной индивидуальности писателя». Чтобы узнать, как надо к ней относиться, я заставил себя прочесть статьи самого А.Дымшица в журнале «Октябрь», где он еще недавно был заместителем главного редактора, Но, увы, надежды мои не оправдались… Я увидел в этих статьях самые заурядные выпады против Э.Казакевича, А.Вознесенского, Б.Окуджавы. «Не самобытно», как говорил Рахметов.
Хотя я, по словам движущейся эстетики, консерватор, мне еще не приходилось принимать участия в таких компаниях. Да, но вы отрицаете право художника на свое особое видение, а Дымшиц его признает! Допустим. Но если во имя видения можно тыкать индивидуальность в морду селедкой, что нам за польза от движущейся эстетики? Движется она или не движется — все едино.
Это не шутка, совсем не шутка, любезный Константин Макарыч. Всякий, кто дал себе труд познакомиться с литературной деятельностью А.Дымшица, знает, что он одновременно за свободу видения и за кузькину мать. Мартин Лютер сказал: «Я здесь стою и не могу иначе». В отличие от Лютера А.Дымшиц здесь стоит, но может и иначе. Он и новатор, и консерватор, он всецело за отражение жизни, но, в предвидении всяких возможностей, заранее отворяет немного свой в а с и с д а с для личного видения.
Если позиция Лютера — это догматизм, то позвольте сказать, что такой догматизм мне больше нравится, чем отсутствие правил. Как вы думаете, милый дедушка, почему Лютер стоял на своем месте и не мог иначе? А вот почему: мне кажется, он был убежден в том, что его точка зрения не просто личное видение мира, а всеобщая объективная и абсолютная истина. Ручаюсь вам головой, что так же было со всеми выдающимися историческими деятелями, мыслителями и художниками прошлого. Никакой движущейся эстетики и прочей бутафории в них не было и следа.
Конечно, Лютер заблуждался, он брал на себя слишком много. Этот сын разбогатевшего рудокопа был крепко сколоченной индивидуальностью. И чем крепче он стоял на своем, тем больше утверждался в своей вере, то есть считал ее истиной в последней инстанции. Нам остается принять его таким, каков он есть — со всеми его высокими и смешными сторонами, с его особым литературным стилем, который оставил, заметный след в истории немецкого языка.
Да, Лютер был сыном своего века, своей страны, своего класса. И, если угодно, если нам так нравится, вы можете сказать, что у него было свое видение мира — ведь он имел даже своего личного черта и всю жизнь сражался с ним один на один. Где ему было понять таких мыслителей, как Эразм! С другой стороны, очень возможно, что простодушие виттенбергского профессора помогло ему на время, в самом начале двадцатых годов шестнадцатого века, стать вождем всего немецкого национального движения. Когда же это движение разделилось на ясно выраженные классовые потоки, сколько мещанской узости обнаружил Лютер по отношению к восставшим крестьянам!
Отсюда следует, что люди, сильные духом, деятели, как называл их Белинский, склонны придавать своей особой позиции всеобщее значение. И это хорошо, пока уверенность в своей правоте имеет действительное историческое содержание, и это плохо, когда она расходится с объективной истиной. Но если человек с самого начала не претендует на всеобщее содержание своих идей, а хочет только выкроить себе особое видение рядом с другими видениями — это всегда плохо. Релятивизм, как называется эта теория, есть верный признак разброда умов, а где вы видели, чтобы в такой среде рождались сильные индивидуальности?
Мне неловко повторять уроки диалектики, давно, до Маркса, усвоенные самой глубокой и честной общественной мыслью. Если человеку досталось счастье быть индивидуальностью, не раздавленной кованым сапогом чужой власти, не выжатой бесконечным трудом, откуда он черпает свою личную силу? Послушайте Гете: «Что такое я сам? Что я сделал? Я собрал все и воспользовался всем, что видел, слышал и наблюдал. Мои произведения вскормлены тысячами различных индивидов, невеждами и мудрецами, умными и глупыми. Детство, зрелый возраст, старость — все принесли мне свои мысли, свои способности, свои надежды, свою манеру жить; я часто снимал жатву с поля, засеянного другими, мой труд — это труд коллективного существа, и носит оно имя — Гете».
Здесь с нами говорит, положа руку на сердце, один из самых сознательных художников мира — не только оригинальный писатель, но и глубокий ум, постоянно изучавший действо творческой силы в самом себе. Для Гете индивидуальность тем более развита и свободна, чем больше она наполнена общественным содержанием. Я привел слова Гете, но с таким же правом можно привести слова Дидро, Бальзака, Пушкина, Белинского и многих других авторитетных лиц — авторитетных по крайней мере для таких консерваторов, как я. Все они полагали, что писатель прежде всего «коллективное существо», воплощение чего—то большего, чем он сам, пророк, способный услышать диктат действительности и, говоря от имени этой силы, а не от лица своей собственной милости, глаголом жечь сердца людей.
Бессмысленные мечтания! — скажет А.Дымшиц и вся его движущаяся эстетика. Дело искусства — заниматься индивидуальным видением мира по специальности, а не соваться в такие дела, где костей не соберешь. Послушайте движущуюся эстетику, и у вас составится представление, что между индивидуальностью и общественным началом идет постоянный арифметический спор: то личное видение растет, то общество наступает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: