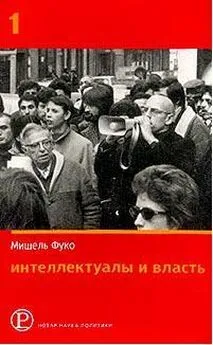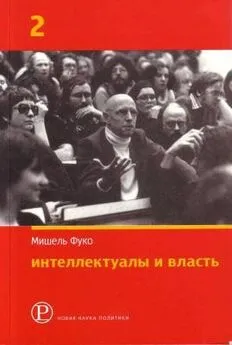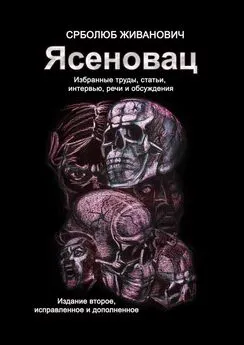Мишель Фуко - Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью
- Название:Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Праксис
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-910574-23-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мишель Фуко - Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью краткое содержание
В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.
Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.
Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мне кажется, что в таком новом вменении вины, на которое мы, судя по всему, столь падки, неуклонно упускаются из виду те великие очертания знания, которое Запад при помощи различных религиозных, медицинских и общественных процедур беспрестанно организовывал вокруг пола.
Я предполагаю, что здесь со мною все согласятся. Но тут же все-таки заявят: «Вся эта грандиозная шумиха вокруг пола, все эти постоянные хлопоты имели, по крайней мере до XIX века, лишь одну цель: воспрепятствовать свободному пользованию полом». Конечно же, роль запретов была важна. Но оказывается ли пол запрещённым сразу же и прежде всего? Или же запреты являются лишь ловушками в рамках какой-то сложной и позитивной стратегии?
Здесь мы касаемся более общего вопроса, который придётся решать на фоне такой истории сексуальности, — вопроса о власти. Когда мы заводим речь о власти, как-то само собой получается, что мы себе её представляем как какой-то закон, запрет, как воспрещение и подавление, и поэтому тогда, когда нам приходится прослеживать её механизмы и её позитивные воздействия, мы оказываемся совершенно безоружными. Ведь на всех исследованиях власти тяжким бременем лежит правовой образец, наделяющий безусловными привилегиями форму закона. Надо написать историю сексуальности, которая не руководствовалась бы представлением о власти как подавлении или цензуре, но соотносилась с идеей власти как побуждения, власти-знания. Необходимо попытаться выявить во всей чистоте тот строй принуждения, удовольствия и рассуждения, который для такой сложной области, как сексуальность, оказывается не сдерживающим, а именно образующим и определяющим.
Я бы пожелал, чтобы такая фрагментарная история «науки о поле» смогла оказаться не менее значимой и как набросок аналитики власти.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА [37] La fonction politique de l'intellectuel // Politique-Hebdo. 29 novem-bre-5 decembre 1976. P. 31–33.
Извлечение из беседы Мишеля Фуко с итальянскими журналистами
В течение долгого времени так называемый «левый» интеллектуал брал слово и воображал, что право говорить за ним признают потому, что видят в нем учителя истины и справедливости. Его слушали, или он притязал на то, что его должны слушать как лицо, представляющее всеобщее. Быть интеллектуалом означало, в частности, быть всеобщей совестью. Я полагаю, что тут мы вновь возвращаемся к представлению, заимствованному из марксизма, причём марксизма вульгарного, будто подобно тому, как пролетариат в силу необходимости своего исторического положения является носителем всеобщего (однако носителем непосредственным, плохо осведомленным, недостаточно сознательным), так и интеллектуал благодаря своему теоретическому и политическому моральному выбору стремится быть носителем этой всеобщности, но в её сознательной и развитой форме. Интеллектуал якобы выступает отчетливым и персонифицированным выразителем той всеобщности, чьим тёмным и коллективным образом является пролетариат.
Минуло много лет с тех пор, как мы перестали требовать от интеллектуала исполнения подобного рода роли. Это изменение было обусловлено появлением нового способа «связи между теорией и практикой». Интеллектуалы привыкли к работе не внутри «всеобщего», «образцового», «справедливого и истинного для всех», а в определённых отраслях, в конкретных точках, где сосредоточены условия их профессиональных занятий либо условия их жизни (квартира, больница, приют, лаборатория, университет, семейные и половые связи). От этого они, безусловно, только выиграли, обретя намного более конкретное и непосредственное осознание различных видов борьбы. Ведь они столкнулись там с вопросами, которые были особыми, «невсеобщими», зачастую отличающимися от задач пролетариата или же масс. Тем не менее в действительности они сблизились с массами и, как я полагаю, по двум причинам: потому, что речь шла о реальных видах борьбы, материальной и повседневной, и потому, что зачастую они сталкивались в каком-то ином виде с тем же противником, что и пролетариат, крестьянство или массы: с транснациональными корпорациями, с судебными и полицейскими органами, со спекуляцией недвижимостью и т. д. Эту фигуру мне хотелось бы назвать интеллектуалом-специалистом в противоположность интеллектуалу универсальному.
Эта новая фигура имеет иное политическое значение: она позволила если не спаять, то, по крайней мере, по-новому сформировать те достаточно близкие категории, которые оставались разобщенными. Ведь до этого интеллектуал был по преимуществу писателем: всеобщей совестью, свободным субъектом, и он противопоставлял себя всего лишь специалистам на службе государства или капитала, то есть инженерам, должностным лицам, преподавателям.
Но как только отправной точкой политизации становится особая деятельность каждого интеллектуала, то писательство, как сакрализующий признак интеллектуала, постепенно исчезает. Тогда стали складываться условия для горизонтальных связей от знания к знанию, от одной точки политизации к другой, и таким образом государственные служащие и психиатры, врачи и социальные работники, сотрудники лабораторий и социологи — каждый на своём собственном месте — смогли путём взаимного обмена и взаимной поддержки участвовать в общей политизации интеллектуалов. Этот процесс выражается в том, что писатель как лицо выдающееся начинает исчезать, а возникают преподаватель и университет, может быть, не как главные составляющие, но как «пункты обмена», как исключительные точки пересечения. В этом, безусловно, и кроется причина того, что университет и преподавание становятся политически сверхчувствительными областями. А то, что называют кризисом университета, следует понимать не как утрату силы, но, наоборот, как приумножение и усиление его властных воздействий в среде многоликого сообщества интеллектуалов, которые практически все через него проходят и с ним соотносятся. […]
Мне кажется, что такой тип интеллектуала-специалиста появился после Второй мировой войны. Возможно, им был физик-атомщик, назовём одно слово или скорее имя — Оппенгеймер, который послужил передаточным звеном между интеллектуалом-универсалом и интеллектуалом-специалистом. Как раз потому, что у него была прямая и локализованная связь с образованием и научным знанием, он выступал как физик-атомщик, однако, поскольку атомная угроза затрагивала целиком весь человеческий род и судьбы всего мира, его рассуждения в то же время имели возможность стать рассуждением о всеобщем. Опираясь на то негодование, которое охватывало весь мир, учёный-атомщик заставил служить ему своё особое положение в порядке знания. Я полагаю, что именно тогда интеллектуал впервые подвергся преследованиям со стороны политической власти не за общие рассуждения, но из-за конкретного знания, носителем которого он являлся, ибо как раз именно на этом уровне он представлял политическую опасность. […]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: