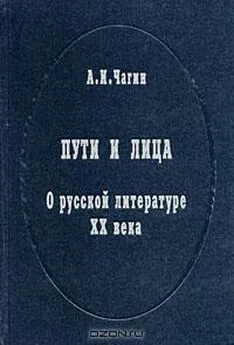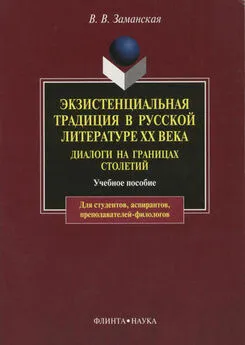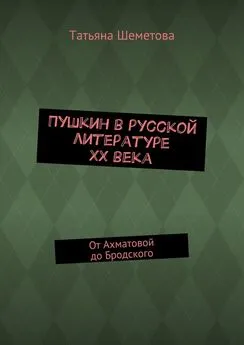Алексей Чагин - Пути и лица. О русской литературе XX века
- Название:Пути и лица. О русской литературе XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИМЛИ РАН
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-59208-0290-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Чагин - Пути и лица. О русской литературе XX века краткое содержание
В книге объединен ряд работ автора, написанных в последние два десятилетия и посвященных русской литературе XX века. Открывается она "Расколотой лирой" (1998) - первым монографическим исследованием, обращенным к проблемам изучения русской литературы в соотношении двух потоков ее развития после 1917 года - в России и в зарубежье. В следующие разделы включены статьи, посвященные проблемам и тенденциям развития литературы русского зарубежья и шире - русской литературы XX века. На страницах книги возникают фигуры В.Ходасевича, Г.Иванова, С.Есенина, О.Мандельштама, И.Шмелева, В.Набокова, Б.Поплавского, Ю.Одарченко, А.Несмелова, М.Исаковского и других русских поэтов, прозаиков.
Книга адресована специалистам-филологам и всем, кто интересуется русской литературой XX века.
Пути и лица. О русской литературе XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Были, однако, и иные черты у поэзии русского Парижа. В творчестве поэтов «Перекрестка», ориентировавшихся на позицию Ходасевича (эта группа, кстати, объединяла в себе поэтов Парижа и Белграда), ощутимо было влияние идей неоклассицизма, внимание к поэтической форме, приверженность классическому русскому стиху и часто — идущая от опыта петербургской школы предметность и четкость очертаний поэтического мира. В поэзии, например, В.Смоленского заметно было влияние Ходасевича — и в образности, и в любви к ямбу, который был для молодого тогда поэта, как и для Ходасевича, воплощением России. В его стихотворениях 1920-1930-х годов, где мотивы тоски и одиночества тоже звучали нередко, была, вместе с тем, жажда преодоления испытаний, прорыва сквозь мглу сомнений и безверия к свету. В стихотворении, посвященном Ходасевичу, он писал именно об этом:
Все глуше сон, все тише голос,
Слова и рифмы все бедней, —
Но на камнях проросший колос
Прекрасен нищетой своей.
Один, колеблемый ветрами,
Упорно в вышину стремясь,
Пронзая слабыми корнями
Налипшую на камнях грязь,
Он медленно и мерно дышит —
Живет — и вот, в осенней мгле,
Тяжелое зерно колышет
На тонком, золотом стебле.
(«Все глуше сон, все тише голос…»)
И все же граница, разделяющая два течения парижской поэзии, была весьма прозрачной, во многом условной. Ведь при всех спорах, при всех различиях творческих позиций, приверженцев Ходасевича объединяла с поэтами «парижской ноты» ориентация на одни традиции — на опыт петербургской школы с ее предметностью, изобразительной, пластической природой образа, строгостью, точностью поэтического слова, нередко соединявшимися с символической глубиной поэтического мира. Словом, произведения мастеров обоих «направлений» парижской поэзии звучали явно в петербургском регистре, Летний сад продолжался Монпарнасом. Это создавало тот общий акмеистический воздух русского Парижа, который во многом определял поэтическую ситуацию и здесь, и в зарубежье в целом.
P.S. В качестве послесловия можно сказать о том, что доминирование петербургской школы в поэзии русского Парижа имело и свою негативную сторону. В свое время (полвека назад) В. Марков, доводя до крайности позицию Эйхенбаума, сопоставлявшего внутренний диапазон двух течений: футуризма и акмеизма, писал об акмеизме как о «благополучной эстетике», как об отказе от «езды в незнаемое» — и высказал при этом крамольную мысль: «Иногда кажется, что не умри Гумилев в подвалах Чеки, акмеизм мог бы стать официальной литературной теорией, и не надо было бы изобретать “социалистического реализма"» [411] Марков В. Мысли о русском футуризме // Новый журнал. Кн. XXXVIII. 1954, С. 180.
. Обостряя ситуацию применительно к литературе зарубежья, и понимая всю аллегоричность утверждаемого, рискну сказать, что петербургская школа, вобравшая в себя опыт акмеизма и доминировавшая в поэзии русского Парижа, помимо всего бесспорно ценного и плодотворного, что она дала, в какой-то степени сыграла (по крайней мере, в пределах «парижской поэзии») роль своего рода эмигрантского «соцреализма», основного метода, часто подавлявшего попытки поэтических поисков в иных направлениях. Примером тому может быть, в частности, поэтическая судьба Б. Поплавского. С.Карлинский, сопоставляя пути внутренней эволюции Заболоцкого и Поплавского, замечает, что и Поплавский, и Заболоцкий практически одновременно, в начале 1930-х годов решают расстаться с сюрреализмом: Поплавский — «из уважения к парижской школе, … которая становилась доминирующей в эмигрантской литературе того времени», Заболоцкий – в результате травли в партийной прессе. В результате оба поэта пытались в те годы (часто безуспешно) перейти на традиционные пути в поэзии. С.Карлинский приходит при этом к характерному выводу о «сходстве идеологического давления, так похоже осуществляемого в таких разных обстоятельствах» [412] Karlinsky S. Surrealism in Twentieth-Century Russian Poetry: Churilin, Zabolotskii. Poplavskii // Slavic Review. 1967. № 4. P. 616-617.
. При всей радикальности этого вывода, — в частности, при том, что в случае с Поплавским под «идеологией» надо, видимо, понимать ней идеологию литературную — добавлю, что С.Карлинский, писавший об этом в 1960-е годы, не мог знать, что в конце 1990-х в архиве Поплавского будет найден полностью им подготовленный сборник «Автоматические стихи», содержащий почти 200 (!) неизвестных ранее сюрреалистических стихотворений, написанных «в стол», поскольку опубликовать такие стихи в акмеистической ситуации русского поэтического Парижа было нереально. Это дало возможность французской исследовательнице Е. Менегальдо назвать Поплавского «внутренним эмигрантом» зарубежной России [413] Менегальдо E. Борис Поплавский — от футуризма к сюрреализму // Поплавский Б. Автоматические стихи. М., 1999. С. 16-17.
. Как видим, механизмы целостности разделенной русской литературы включают в себя и такого рода моменты.
ПРАГА — ПАРИЖ: диалог А.Бема и Г.Адамовича
Мне уже приходилось писать об акмеистической линии развития зарубежной русской поэзии, проходящей, по несколько армейскому выражению Г.Адамовича, «вокруг “оси” Петербург — Париж». Речь тогда шла, в частности, о неоднородности поэзии русского Парижа, о дискуссии между В.Ходасевичем и Г.Адамовичем и теми поэтическими силами, что стояли за ними («Перекресток» и «парижская нота»). При этом важно было показать, что пограничная полоса между двумя полемизирующими сторонами — при всей, порою, остроте этой полемики — была достаточно условной, что у поэтов «Перекрестка» и «парижской ноты» было больше сходных, чем разъединяющих их черт творчества, что и те, и другие в своих художнических поисках оставались, в основном, в пределах «парижско-петербургской» поэтики.
Гораздо более принципиальным оказался другой полемический диалог, шедший в 1930-е годы между Парижем и Прагой, между идеологом «парижской ноты», духовным лидером поэтической молодежи русского Монпарнаса Г.Адамовичем и А.Л.Бемом, профессором Карлова университета в Праге, известным историком литературы, создателем и руководителем пражского объединения молодых русских писателей «Скит поэтов» (позднее просто «Скит»). Собственно, диалога в традиционном его понимании (как, скажем, у Г.Адамовича с В.Ходасевичем) между ними и не было. А.Бем нередко в своих полемических выступлениях адресовался к имени и позиции Г.Адамовича, но прямого ответа не получал: Г.Адамович или не считал нужным затевать еще одну литературную «дуэль», или, возможно, в ряде случаев искренне не замечал критических стрел, выпушенных в него оппонентом, печатавшим свои статьи, в основном, в берлинских и варшавских изданиях. Однако ответы косвенные, без обращения к оппоненту, были, и весьма существенные, и нередко адресат в них вполне угадывался. Позиции участников этого непрямого диалога настолько разнились между собой, что порой полемика принимала облик противостояния.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: