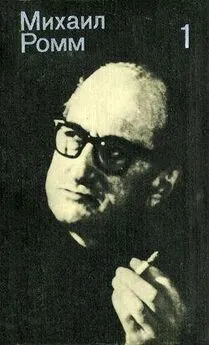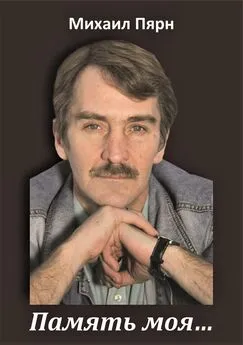Михаил Ямпольский - Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф
- Название:Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1993
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Ямпольский - Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф краткое содержание
Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
352
строго говоря, в прозе Гоголя не существующий» и являющийся итогом объединения «под «смысловым знаком» не только различных персонажей, но и персонажей различных текстов» (Лотман—Цивьян, 1984:47). А сам сценарий «Шинели», уподобляемый исследователем палимпсесту, складывается из множества текстов и превращается в «своего рода интертекст» (Цивьян, 1986:26).
Суммируя негативное воздействие иллюстраций, Тынянов заключал: «Иллюстрация дает фабульную деталь — никогда не сюжетную. Она выдвигает ее из динамики сюжета. Она фабулой загромождает сюжет» (Тынянов, 1977:318).
К этой же проблеме Тынянов вернулся позже в своем главном теоретическом труде по кино «Об основах кино». Заключительные 11—14 разделы этой статьи посвящены им проблеме взаимосвязи сюжета, фабулы и стиля — ключевой для его поэтики. Однако, в отличие от остальных разделов работы, Тынянов здесь в основном ограничивается отсылками к литературе, некоторыми общими декларациями и сам указывает на непроясненность этого сложного вопроса (Тынянов, 1977:345).
Если анализируя книжные иллюстрации, Тынянов почти без остатка относил изображения к фабуле, то в «Об основах кино» он указывает на возможность чисто «стилевого», внефабульного кинематографа (Тынянов, 1974:342), но поясняет это положение не кинематографическим примером, а ссылкой на «Нос» Гоголя (Гоголь — один из ключевых примеров и статьи «Иллюстрации»). Укажем, между прочим, что «Нос» наряду с «Цахесом» также входит в пародийный подтекст «Киже». По поводу «Носа» Тынянов пишет: «...отрезанный нос превращен семантической (смысловой) системой фраз в нечто двусмысленное: «что-то», «плотное» (средн. род), «его, он» (очень часто местоимение, в котором всегда блекнут предметные,
353
вещные признаки), «позволить носу» (одушевление) и т. д. И эта смысловая атмосфера, данная в каждой строке, стилистически так строит фабульную линию «отрезанного носа», что читатель, уже подготовленный, уже втянутый в эту смысловую атмосферу, без всякого удивления читает потом такие диковинные фразы: «Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились».
Так определенная фабула становится элементом сюжета: через стиль, дающий смысловую атмосферу вещи» (Тынянов, 1977:343).
Таким образом, преодоление голой фабульности иллюстрации, ее погружение в «сюжетизирующий» стиль для Тынянова было связано с гоголевским умалением «предметных, вещных признаков», «чем-то двусмысленным». В стихах такой эффект достигался переносом акцента на колеблющиеся признаки значения. В иллюстрациях «неопределенность, широкие границы конкретности — первое условие» (Тынянов, 1977:313). И Тынянов отмечает: «...задача рисунков относительно поэзии скорее негативная, нежели положительная... <...>. Только ничего не иллюстрируя, не связывая насильственно, предметно слово с живописью, может рисунок окружить текст» (Тынянов, 1974:316). Любопытно при этом, что в качестве лучшего примера авторской иллюстрации Тынянов называет рисунки Гофмана. Эта негативность, воплощенная в самом персонаже Киже, именно в пародии находит возможность «окружить текст», не связывая его «предметно». В своей первой теоретической работе о пародии «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)» (1921) Тынянов пишет о «двойной жизни» пародии: «...за планом произведения стоит другой план, стилизуемый или пародируемый. Но в пародии обязательна невязка обоих планов, смещение их» (Тынянов, 1977:201). И в ином месте: «Пародия существует постольку, поскольку сквозь произведение просвечи-
354
вает второй план, пародируемый; чем уже, определеннее, ограниченнее этот второй план, чем более все детали произведения носят двойной оттенок, воспринимаются под двойным углом, тем сильнее пародийность» (Тынянов, 1977:212). Не случайно, конечно, Тынянов, а после него и В. Виноградов (Виноградов, 1976:230—366) рассматривали пародии именно на Гоголя, бывшего образцом «двусмысленности», «распредмеченности». Пародирование изначально расслоенного «двойного» стиля Гоголя еще более усиливало черты двойственности, зыбкости текста, столь важные для Тынянова в процессе преодоления фабульности. Не случайно, конечно, сам Тынянов спрятал в подтекст Киже гофмановского «Цахеса» — насквозь двойственный, пародийный, зыблющийся текст, а также отчасти гоголевский «Нос» — излюбленный им пример антииллюстративности.
Показательно и то, что в первом варианте сценария, где Киже предстает в виде шинели, сильна ориентация на «Шинель» Гоголя 5, которая вместе с исчезновением самого предмета замещается ориентацией на «Нос», проступающей в более скрытых, менее декларативных отсылках. После исследования Виноградова (1921) «Нос» по существу превратился в знак повышенной интертекстуальности. Виноградов указывал, что в основу этой повести «положен ходячий анекдот, объединивший те обывательские толки и каламбуры о носе, о его исчезновении и появлении, которые у литературно образованных людей начала XIX столетия осложнялись еще реминисценциями из области художественного творчества. Ведь даже в 50-х годах Н. Чернышевскому новелла Гоголя «Нос» представлялась «пересказом общеизвестного анекдота». А литературная атмосфера 20—30-х годов была насыщена «носологией»» (Виноградов, 1976:5). В этом контексте «Нос» предстает как своего рода гиперцитата, способная напластованием разнородных подтекстов
355
заменить наглядную шинель и конкретизироваться
в тело.
Пародийный элемент в замысле «Киже» очень разнолик. Он, например, выражен в подчеркнутой театральности многих эпизодов фильма. Акцентирование в герое актерского элемента, по Тынянову — один из первейших признаков пародии («...в театрально-драматической пародии вместо героя выступает актер...» — Тынянов, 1977:302). Элемент актерского — непременное условие и разобранного Тыняновым феномена «пародической личности» (Тынянов, 1977:303—308). В фильме Файнциммера во многих эпизодах вводятся прямые знаки театра — занавес и театральный подиум-сцена. Многоярусный занавес — композиционная основа сцены первой брачной ночи Киже и Сандуновой, пародирующей водевиль. Занавес мелькает в сцене прибытия Киже во дворец и т. д. Театральность общего рисунка фильма также пародийна по отношению к повести Гофмана с ее выраженным театральным подтекстом, знаком которого являются, например, гротескные доктора — классические персонажи фарсов (см.: Скобелев, 1982), затем заимствованные Тыняновым.
Театр внутри фильма есть фундаментальное для пародии средство перевода одной системы в другую. Однако оно не может являться основополагающим кинематографическим принципом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: