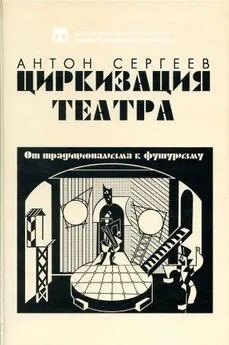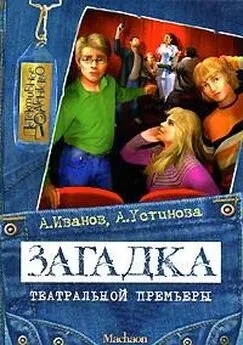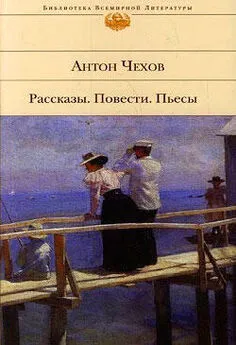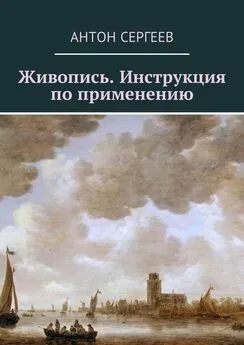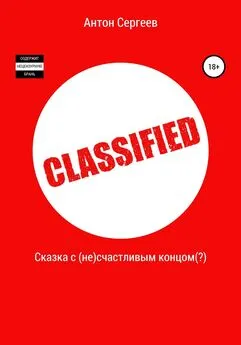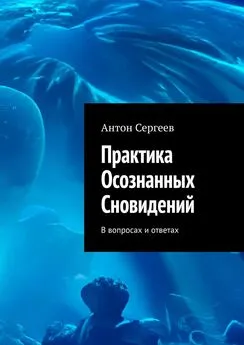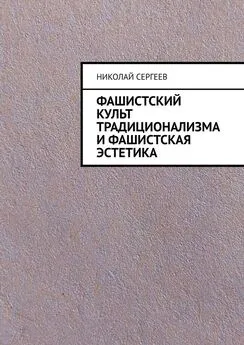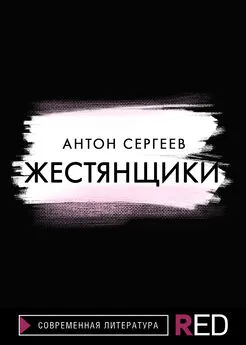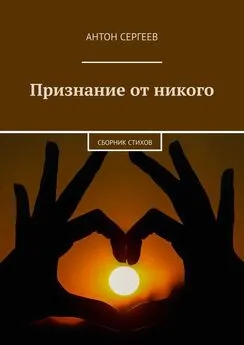Антон Сергеев - Циркизация театра: От традиционализма к футуризму
- Название:Циркизация театра: От традиционализма к футуризму
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Е. С. Алексеева
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-88689-040-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Сергеев - Циркизация театра: От традиционализма к футуризму краткое содержание
Учебное пособие посвящено пятилетней истории циркизации театра (1918–1923). Спектакли В. Э. Мейерхольда, Ю. П. Анненкова, С. Э. Радлова, Н. М. Фореггера, Г. М. Козинцева и Л. З. Трауберга, С. М. Эйзенштейна рассмотрены автором сквозь призму взаимодействия традиционализма и футуризма.
Издание имеет историко-теоретическую направленность и адресовано прежде всего студентам по специальностям театровед и режиссер.
http://fb2.traumlibrary.net
Циркизация театра: От традиционализма к футуризму - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Есть еще один существенный момент, отличающий цирковой акробатический трюк от акробатического трюка в спектаклях Мейерхольда. Большинство цирковых номеров связано с опасностью. Зритель в цирке следит за тем или иным аттракционом, затаив дыхание, именно потому, что знает: канатоходец может сорваться, на укротителя может наброситься тигр, гимнаст может расшибиться и т. д. Зрительское внимание приковывается к происходящему двойственным чувством восхищения и страха. Причем совершенно очевидно, что зритель испытывает страх не за маску канатоходца (как раз она по цирковым законам должна быть непогрешима), а за самого канатоходца, то есть за актера. Мейерхольд не использует в своих спектаклях трюков, связанных с таким большим риском. А эстетическое осмысление трюка, изъятие его самоценности и вовсе снимают проблему внеэстетического сопереживания зрителя актеру в момент исполнения технически сложного акробатического элемента. То есть цирковое сопереживание актеру, находящееся вне эстетических чувств зрителя, Мейерхольдом в театр не переносится.
При этом совершенно не пропадает вторая часть циркового чувства зрителя — восхищение. Зритель прекрасно отдает себе отчет в сложности трюка и в совершенстве техники актера.
И последнее отличие акробатики у Мейерхольда от акробатики в цирке — это использование в биомеханическом тренинге и в спектакле всей психофизики актера, а не вычленение в ней, как в цирке, физической, внешней стороны. Мейерхольд говорил: «В “Великодушном рогоносце” психический аппарат был так же в движении, как и биомеханика» [336] Гладков А. К . Из воспоминаний о Мейерхольде // Москва театральная. М., 1960. С. 358.
. Абсолютным подтверждением его слов может быть М. И. Бабанова — Стелла. «В “Рогоносце” Бабанова была самым значительным явлением этого значительного спектакля. Без Бабановой и отчасти Ильинского спектакль был бы только блистательным доказательством теоремы, замечательным экспериментом. Благодаря Бабановой он стал человеческим спектаклем, насыщенным сочувствием и сопереживанием зрителя» [337] Левидов М. Ю . Театральные силуэты // Современный театр. 1927. № 9. С. 140.
. Мейерхольд нашел соединение внешней выразительности, переходящей в выразительность акробатическую, и внутренней драматической, театральной наполненности актера.
Акробатика открыла Мейерхольду новые неограниченные возможности актерской выразительности. Осмысленная им с театральных позиций, она стала полноправным элементом театрального спектакля. Заявленная в «Великодушном рогоносце» акробатика как средство выразительности театрального актера была растиражирована по всему русскому театру. Тираж привел к возникновению спектаклей, в которых акробатические элементы чисто механически соединялись с театральными и никак не дополняли уже свершившиеся открытия. Это заставило достаточно резко высказаться даже Н. М. Фореггера, обвиненного Мейерхольдом в верхоглядстве и дилетантстве за его попытки синтезировать театр и цирк. «Постепенно работа режиссера превращается в механическое изобретение трюков “числом поболее, ценою подешевле”, художник гордится, если он первый применил неиспользованное орудие пытки для актера. А актер тщетно стремится стать третьеразрядным циркачом» [338] Фореггер Н. М . Коечто по поводу моды // Зрелища. 1923. № 55. 25–30 сент. С. 5.
. Обвинения Фореггера относились и к «Мудрецу» Эйзенштейна.
Однако напрямую «Мудрец» наследовал не «Великодушному рогоносцу», а другой мейерхольдовской работе — «Смерти Тарелкина».
Обратим внимание всего лишь на одну сцену этого спектакля — «мясорубку». В ней в полной мере сфокусировано отношение Мейерхольда к цирковому приему. По воспоминаниям исполнителя роли Брандахлыстовой М. И. Жарова, никто кроме него не решался пройти через «мясорубку» [339] См.: Жаров М. И . Жизнь. Театр. Кино: Воспоминания. М., 1967. С. 172.
, которая требовала от актера высококлассной акробатической техники. Акробатика была обязательным условием этого трюка, но ни в коей мере не являлась его содержанием. В первую очередь «мясорубка» была метафорой правоохранительной системы дореволюционной России: в этом образе вскрывался механизм «обработки» обывателя властью. По воспоминаниям Э. П. Гарина, герои, «пропущенные через нее, меняют свое мировоззрение» [340] Гарин Э. П . С Мейерхольдом. M., 1974. С. 59.
. Крайне характерно последнее слово: не «показания», а именно «мировоззрение». Полицейская машина меняла человеческую сущность. Встреча с властью переворачивала в героях представление о мире. «Мясорубка» из сатирического образа переходила в регистр гротеска. В связи с этим более чем обоснованным представляется предусмотренное Сухово-Кобылиным исполнение женской роли мужчиной. Цирковой эксцентрический прием лишь подчеркивал противоестественность происходящего и одновременно добавлял в ситуацию комический элемент, что находило свое выражение в финале этого своеобразного аттракциона, когда Брандахлыстова — Жаров начинала кокетничать с Шаталой — Н. П. Охлопковым. «Черный юмор» «мясорубки» разрешался клоунадой.
Клоунада вообще использовалась в спектакле крайне активно, на сцене присутствовал и «традиционный цирковой реквизит: бычьи пузыри на палках для хлопанья по голове, небьющаяся посуда, ведра с водой и пр.» [341] Федоров В. Ф., Эйзенштейн С. М . К постановке «Смерти Тарелкина» мастерской В. Э. Мейерхольда. [21 ноября 1922 г.] // Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1921–1926. С. 202.
. Широкое использование клоунады позволило рецензентам спектакля и позднейшим исследователям творчества Мейерхольда утверждать, что целью постановки было «превратить “Смерть Тарелкина” в “безоблачную трюковую комедию”» [342] Рудницкий К. Л . Режиссер Мейерхольд. С. 276.
. Однако на примере «мясорубки» хорошо видно, что клоунада использовалась в спектакле для достижения гротескного несоответствия, являлась приемом остранения и, несмотря на свой трюковой и аттракционный характер, не была самоценной. Непонимание гротескной природы «Смерти Тарелкина» и породило неприятие спектакля большинством критиков. Мейерхольд не воссоздавал на сцене театра ГИТИС балаган, как полагали, например, Ю. В. Соболев и С. А. Марголин [343] См.: Марголин С. А . Балаганное представление // Мейерхольд в русской театральной критике: 1920–1938. С. 62–66; Соболев Ю. В . «Смерть Тарелкина» // Театр и музыка. 1922. № 12. 19 дек. С. 295–297.
, но строил гротескный сплав ужаса и веселья.
Соратник Мейерхольда В. Ф. Федоров полагал, что гротеск помог «до известной степени “абстрагировать быт”», «невероятный быт» пьесы Сухово-Кобылина. «Трактуемая в тонах натурализма, пьеса бы определенно не зазвучала» [344] Вас. Ф . [ Федоров В. Ф .] «Смерть Тарелкина». Мастерская Вс. Мейерхольда // Зрелища. 1922. № 13. 21–26 нояб. С. 10.
. Любопытно, что статья Федорова в «Зрелищах» является усеченным вариантом другой, неопубликованной статьи, написанной им в соавторстве с Эйзенштейном. В том, очевидно, первом варианте «борьба» с натурализмом велась не средствами гротеска, а средствами клоунады. «В. Э. Мейерхольд ставит пьесу в тонах сильного, яркого гротеска, местами переходящего в чистую, здоровую клоунаду (сцены с “упырями”, Брандахлыстовой, следствия и т. д.). Этим же приемом “обойдены” и самые опасные места пьесы, которые в натуралистическом плане неминуемо производят тягостное, почти патологическое впечатление, как, например, допросы Тарелкина, финал пьесы и пр.» [345] Федоров В. Ф., Эйзенштейн С. М . К постановке «Смерти Тарелкина» мастерской В. Э. Мейерхольда. [21 ноября 1922 г.] // Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1921–1926. С. 202.
. Разделение гротеска и клоунады, видимо, принадлежало Эйзенштейну. Оставим в стороне вопрос, ставил ли Мейерхольд «Смерть Тарелкина» «вопреки» автору или нет и была ли действительно пьеса Сухово-Кобылина так натуралистична [346] См. об этом: Ряпосов А. Ю . В. Э. Мейерхольд и театр А. В. Сухово-Кобылина: Автореф. дис… канд. иск. СПб., 1998. С. 14.
. Для настоящего исследования существенно другое — в восприятии Эйзенштейна клоунада являлась следующей ступенью гротеска («местами переходящего в чистую, здоровую клоунаду»). При таком подходе превращение всех героев «Мудреца» в клоунов обретает важный театральный смысл: по Эйзенштейну, его спектакль как бы начинался там, где заканчивалась «Смерть Тарелкина».
Интервал:
Закладка: