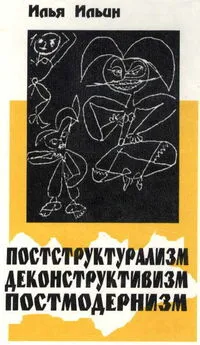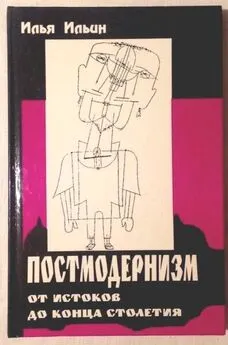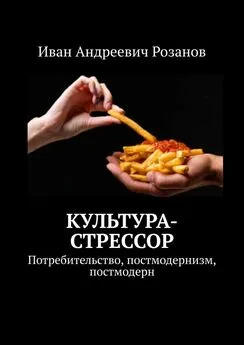Илья Ильин - Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм
- Название:Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Интрада
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-87604-035-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Ильин - Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм краткое содержание
На материале теоретико-эстетических, философских, литературно-критических трудов ученых США, Франции, Великобритании дается обобщающая картина становления (в 1960-х гг.) и развития (в 1970-1990-х гг.) постструктурализма как эстетической концепции, деконструктивизма как метода анализа художественного произведения, сложившегося на основе постструктурализма, и постмодернизма — особого умонастроения, возникшего из постструктуралистских и деконструктивистских эстетических практик.
Анализируются эстетические концепции и понятийный аппарат Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Делеза, Ю. Кристевой, Р. Барта, ученых Йельской школы.
http://fb2.traumlibrary.net
Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не так уж было бы трудно на это возразить, что деконструкция отрицает различие между поэзией и философией или между случайными лингвистическими чертами и самой мыслью, но это было бы ошибочным, упрощающим ответом на упрощающее обвинение, ответом, — несущим на себе отпечаток своего бессилия» (124, с. 144).
Очевидно, стоит вместе с Каллером рассмотреть в качестве примера одно из таких «случайных» смысловых совпадений, чтобы уяснить принципы той операции, которую проводит Деррида с многозначными словами, и попытаться понять, с какой целью он это делает. Таким характерным примером может служить слово: гимен унаследованное французским языком из греческого через латынь и имеющее два основных значения: первое — собственно анатомический термин — «гимен, девственная плева», и второе — «брак, брачный союз, узы Гименея».
Весьма показательно, что изначальный импульс смысловым спекуляциям вокруг «гимена» дал Дерриде Малларме, рассуждения которого по этому поводу приводятся в «Диссеминации»: «Сцена иллюстрирует только идею, но не реальное действие, реализованное в гимене (откуда и проистекает Мечта), о порочном, но сокровенном, находящемся между желанием и его исполнением, между прегрешением и памятью о нем: то ожидая, то вспоминая, находясь то в будущем, то в прошлом, но всегда под ложным обличьем настоящего» (144, с. 201).
При всей фривольности примера (фривольность, впрочем, неотъемлемая духовная константа современного авангардного и уж, конечно, постмодернистского мышления), смысл его вполне серьезен: он демонстрирует условность традиционного понимания противоречия, которое рассматривается в данном случае как оппозиция между «желанием» и «его исполнением» и практически «снимается» гименом как проницаемой и предназначенной к разрушению мембраной. Как подчеркивает Деррида, здесь мы сталкиваемся с операцией, которая, «в одно и то же время» «и вызывает слияние противоположностей, их путаницу, и стоит между ними» (там же, с. 240), достигая тем самым «двойственного и невозможного» эффекта.
Каков же смысл этой «операции» с точки зрения самого Дерриды? «Вопрос не в том, чтобы повторить здесь с „гименом“ все то, что Гегель делает с такими словами немецкого языка, как Aufhebung, Urteil, Meinen, Beispiel и т. д., изумляясь счастливой случайности, которая пропитывает естественный язык элементом спекулятивной диалектики. Здесь имеет значение не лексическое богатство, не семантическая открытость слова или понятия, не его глубина или широта, или отложившиеся в нем в виде осадка два противоположных значения (непрерывности и прерывности, внутри и вовне, тождественности и различия и т. д.). Значение здесь имеет лишь формальная и синтаксическая практика, которая его одновременно объединяет и разъединяет. Мы, кажется, вспомнили все, относящееся к слову „гимен“. Хотя все, кажется, и превращает его в незаменимое означающее, но фактически в нем есть что-то от западни. Это слово, этот силлепс отнюдь не является незаменимым; филология и этимология интересуют нас лишь во вторую очередь, и „Мимика“ (произведение Малларме, цитата из которого приводилась выше — И. И.) не понесла бы уж такого непоправимого ущерба с утратой „гимена“. Эффект в основном порождается синтаксисом, который помещает „между“ таким образом, что смысловая неопределенность вызывается лишь расположением, а не содержанием слов. „Гимен“ только еще раз маркирует то, на что уже указывает местоположение этого „между“, и на то, что оно указывало бы и в том случае, если бы там не было слова „между“. Если заменить „гимен“ на „брак“ или „преступление“, „тождество“ или „различение“ и т. д., результат был бы тот же самый, за исключением утраты экономии смыслового сгущения или аккумуляции, которой мы не пренебрегли» (144, с. 249–250).
Подобная установка на «смысловую игру» пронизывает все творчество Дерриды. Это относится не только к содержанию, но даже и к названию его работ, таких, как, например, «Глас» (1974) (147). Я сознательно не даю перевода названия, поскольку это увело бы нас слишком далеко в бездонные трясины этимологической игры: это и «похоронный звон», и ассоциация с орлиным клекотом, и т. д. и т. п.; во всяком случае, одно из основных значений — «крах системы обозначения» (les glas de la signification). Разумеется, пристрастие Дерриды к «игровому принципу» — отголосок весьма распространенной в ХХ в. культурологической позиции; достаточно вспомнить Шпенглера, Ортегу-и-Гассета, Хейзингу, Гессе да и многих других, включая того же Хайдеггера с его «игрой» в произвольную этимологию. И, хотя бы в плане наиболее возможной преемственности, следует, конечно, назвать Ницше с его «Веселой наукой».
Если вкратце охарактеризовать аргументативную позицию Дерриды (более подробно о литературоведческом варианте которой будет рассказано в разделе об американском деконструктивизме), то она состоит в критике всего, что попадает в поле его зрения, сопровождаемой обычно вежливым сожалением о неизбежности подобных заблуждений как следствии метафизичности мышления, «типичной» для западной культуры. При этом анализ Дерриды — это прежде всего анализ самой аргументации, условно говоря, ее «понятийной стилистики»; не столько даже фразовое, сколько пословесное испытание исследуемого текста на «логическую прочность» и последовательность в отстаивании своего постулата, и, разумеется, доказательство несостоятельности изучаемой аргументации как явно «метафизической». Фактически — это позиция «принципиального сомнения» во всем, доведение до своей экстремы декартовского принципа «методологического сомнения».
Неудивительно, что в этих условиях анализ Дерриды требует обширного текстового пространства, оснащенного многочисленными цитатами, выписками из словарей и энциклопедий и, как уже упоминалось выше, часто целых словарных статей для демонстрации факта, насколько словоупотребление исследуемого автора отклоняется от общепринятого в его или настоящее время. В частности, поэтому, когда у Дерриды возникает потребность в опровержении предъявляемых ему замечаний или в защите своих тезисов, что случается довольно часто, то его ответы нередко значительно превышают по объему критические статьи его оппонентов. Так, например, произошло во время полемики Дерриды с лингвистом Джоном Серлем, который в ответ на критические замечания в свой адрес в эссе французского ученого «Подпись, событие, контекст» (157) выступил с десятистраничным опровержением «Повторяя различия: Ответ Дерриде» (354), указав в том числе на «логические ошибки» рассуждений своего оппонента. Чтобы отвести встречные обвинения, Дерриде понадобилась статья почти в десять раз больше по объему («Лимитед инкорпорейтед, а, б, ц») (150), где он упрекнул Серля в «непонимании» его позиции, в неточности формулировок своих взглядов и т. д. и т. п.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: