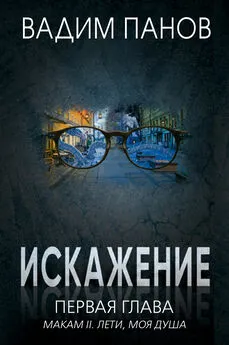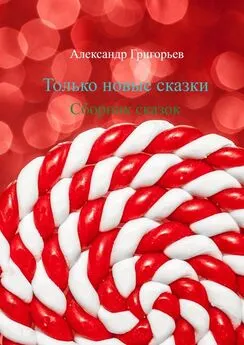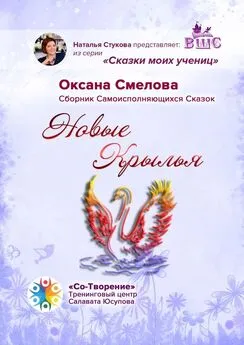С. Панов - Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро
- Название:Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:0869-6365
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С. Панов - Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро краткое содержание
Когда придется перечислять все, чем мы могли гордиться в миновавшую эпоху, список этот едва ли окажется особенно длинным. Но одно можно сказать уверенно: у нас была великая филология. Эта странная дисциплина, втянувшая в себя непропорциональную долю интеллектуального ресурса нации, породила людей, на глазах становящихся легендой нашего все менее филологического времени.
Вадим Эразмович Вацуро многие годы олицетворяет этос филологической науки. Безукоризненная выверенность любого суждения, вкус, столь же абсолютный, каким бывает, если верить музыкантам, слух, математическая доказательность и изящество реконструкций, изысканная щепетильность в каждой мельчайшей детали — это стиль аристократа, столь легко различимый во времена, научным аристократизмом не баловавшие и не балующие.
Научную и интеллектуальную биографию В. Э. Вацуро еще предстоит написать. Мы уверены, что она найдет свое место на страницах «Словаря выдающихся деятелей русской культуры XX века». Пока же мы хотели бы поздравить Вадима Эразмовича с днем рождения доступным для нас способом.
Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как и в случае, который мы имели возможность наблюдать еще в «Вечере», Батюшков затем закрепляет впечатление диалога с Жуковским с помощью повторного реминисцирования, то есть воспроизводя отсылку к Жуковскому дважды, с разными вариациями. Если строка из «Сельского кладбища»: «Повсюду тишина, повсюду мертвый сон», — сначала отозвалась в строчке второй строфы: «И все в глубоком сне поморие кругом», то в третьей строфе она отзовется в стихе: «Все тихо: мертвый сон в обители глухой». В первом случае знаками реминисцирования служат ключевое слово «сон», эпитет «глубокий», который звучит как вариант «мертвого», «все», выступающее семантическим эквивалентом наречия «повсюду»: фонетическим знаком реминисцирования оказывается мелодическая организация стиха, особенно его последней части, в которой — как и у Жуковского — два заключительных ударных икга инструментованы на «о». При повторном реминисцировании на первый план выдвигаются несколько иные компоненты: сохраняется «все» как эквивалент «повсюду», но вместе с тем появляется наречие «тихо» как вариация «тишины», наконец, «сон» получает тот же эпитет, что и в элегии Жуковского, — «мертвый». Вокалический рисунок стиха несколько меняется, но дублетная ударяемость на «о» сохранена — хотя позиционно несколько в ином месте, зато именно в тех словах, которые непосредственно отсылают к «Сельскому кладбищу».
Густота (и «глубина») реминисценций из «Сельского кладбища» в начале стихотворения задает определенный эмоционально-семантический регистр для восприятия дальнейшего движения лирического сюжета: картины героической жизни древних скандинавов проецируются на картины обыденной жизни героев элегии Грея — Жуковского. И та и другая равно бессильны перед всесокрушающим временем: и та и другая сохраняются лишь в меланхолическом воспоминании «пришлеца».
Концовка элегии вновь активизирует реминисцентный слой, отсылающий к Жуковскому, причем реминисцентность здесь приобретает особенно сложный и изощренный характер. С одной стороны, в заключительных стихах («Здесь тлеют праотцев останки драгоценны: // Почти их гроб святой!») трудно не усмотреть реминисценции знаменитых стихов Жуковского: «Здесь праотцы села, в гробах уединенных // Навеки затворясь, сном непробудным спят». Но вместе с тем здесь, видимо, содержится отсылка и к другому месту «Сельского кладбища» — к тому эпизоду, где вводится тема будущего посетителя кладбища и «селянина», рассказывающего страннику об умершем. И дело не ограничивается тематическим параллелизмом: соответствующие стихи воспроизводят фонетическую структуру рифмующих окончаний стихов Жуковского (только в иной компоновке):
А ты, почивших друг, певец уединенный, Оратай ближних сел, склонясь на посох свой,
И твой ударит час, последний, роковой; Гласит ему: «Смотри, о сын иноплеменный,
И к гробу твоему, мечтой сопровожденный, Здесь тлеют праотцев останки драгоценны:
Чувствительный придет услышать жребий твой. Почти их гроб святой!»
(Ж, I, 16). (Б, I, 168).
Сохраняя целый ряд формальных признаков кладбищенской элегии, «На развалинах замка…» знаменовала переход к новым жанровым формам. Батюшков не ограничился только «расширением» материала, перенеся «кладбище» из идиллического времени уединенного села во время историческое. «Историческое» (т. е. «объективированное») содержание оказывалось таковым лишь на внешнем уровне. Обобщенно-мифологизированный характер изображенной «истории» позволил Батюшкову совершить еще один принципиально важный шаг: выстроить текст как бы на совмещении двух временных планов — «древнего» и «современного».
Изображение подвигов скандинавских воинов проецировалось на совсем недавние события — антинаполеоновский поход русской армии. О таком проективном задании свидетельствует не только аллюзионная формула «галлов бич и страх», но и то обстоятельство, что Батюшков вскоре перенес ряд образов и фразеологических формул из «шведской» элегии в «Переход через Рейн» [231]:
Тебе он обречен, о бог, властитель брани И провиденьем обречен
Всегда и всюду твой! Царю, отчизне благодарной!
Там чаши радости стучали по столам, Костры над Рейном дымятся и пылают!
Там храбрые кругом с друзьями пировали И чаши радости сверкают!
Где вы, отважные толпы богатырей.
И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Вы, дикие сыны и брани и свободы, Под знаменем Москвы, с свободой и громами,
Возникшие в снегах, средь ужасов природы. Стеклись с морей, покрытых льдами…
Средь копий, средь мечей!
(Б, I, 166, 167, 168). И стяги древние средь копий и мечей.
(Б, I, 251, 252).
Двупланный характер «исторического» материала позволяет и центральную фигуру «скандинавской» части элегии — юного воина — также строить на двупланном принципе: в ряде важных моментов персонаж оказывается соотнесен с самим Батюшковым. О такой соотнесенности свидетельствует, помимо прочего, появление в элегии некоторых биографических мотивов, которые можно найти в батюшковской поэзии военных и послевоенных лет. К посланию «К Дашкову», например, отсылает тема клятвы юноши («быть ужасом врагов, // Иль пасть, как предки пали, с славой») и образ хранящего заветы «славы» старого воина с «израненной рукой» (ср. с упомянутым в послании «израненным героем, кому известен к славе путь»). Морское возвращение на родину также связано с биографическим подтекстом, и, конечно, в элегии не случайно использована та же «фоносемантика», изображающая веяние ветра и движение корабля, что и в биографической «Тени друга» («Уж веет кроткий ветр вослед твоим судам» — и «Чуть веял ветерок, едва сверкали волны»). Автобиографична и оставленная на родине невеста: характерно, что приемы изображения влюбленности («Едва на жениха взглянуть украдкой смеет, // Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет») перейдут из «шведской» элегии в «Тавриду», связанную с безответным чувством Батюшкова к Анне Фурман («Твой друг не смеет и вздохнуть: // Потупя взор, стоит, дивится и немеет»).
Идеальный мир героики и любви предстает опрокинутой в давно прошедшее проекцией недавних надежд и мечтаний самого Батюшкова: стихотворение пишется уже в ту пору, когда их несбыточность стала очевидной. «Все время в прах преобратило» — это итог не только древней истории, но и совсем свежего личного опыта. Историческое и биографическое как бы сливаются: индивидуальная биография осмысляется как реализация универсального исторического закона.
Таким образом, грань между «объектом» и «субъектом» делалась зыбкой: самый объект оказывался не только пропущен сквозь призму субъективного восприятия, но и сопричастен внутренней жизни субъекта. Его «объективность» делалась во многих отношениях фиктивной. Жизнь внешняя неприметно превращалась в проекцию жизни внутренней. Так готовился переход не только к «унылой элегии» (которая очень многое взяла именно от этого проективного принципа), но и к позднейшим формам философской лирики.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


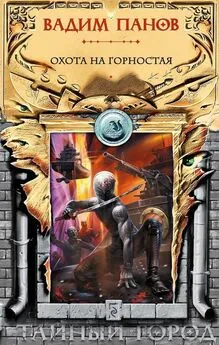
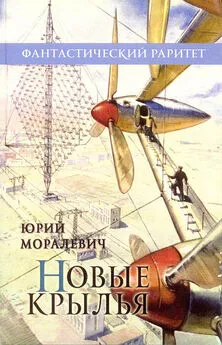
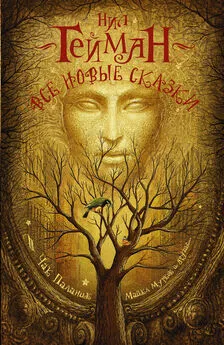

![Чез Бренчли - Новые страхи [сборник litres]](/books/1070254/chez-brenchli-novye-strahi-sbornik-litres.webp)