Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов Том 1
- Название:История искусства всех времён и народов Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Полигон
- Год:2000
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89173-061-8, 5-89173-062-6 (т. 1)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов Том 1 краткое содержание
Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до XIX столетия (История искусства всех времен и народов, т. 1).
В первом томе „Истории искусства всех времен и народов“ К. Вёрмана представлен обзор художественного творчества первобытных племен и народов древнего мира, а также рассматривается искусство населения ряда азиатских и африканских государств до XIX в. н. э. Сочинение является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства. В издании огромное количество интересных фотографий и рисунков, иллюстрирующих познавательный текст.
Предлагаемая читателям „История искусства всех времен и народов“ Карла Вёрмана, известного искусствоведа и исследователя-путешественника, бывшего директора Дрезденской галереи, существенно отличается от книг подобного рода. В них обычно рассматривается ход развития главным образом трех важнейших художественных отраслей: архитектуры, скульптуры и живописи, искусству же прикладному уделяется очень мало места или даже совсем не уделяется; последовательные фазы развития искусства по большей части представляются в картине, охватывающей собой не все человечество, а лишь отдельные народы, игравшие более или менее видную политическую или культурную роль; более важное значение придается в основном исчислению и описанию памятников искусства, а не определению происхождения их типов и форм из того или другого источника, объяснению их перехода от одного народа к другому и указанию на взаимодействие между собой национальных искусств.
Труд К. Вёрмана имеет цель изложить историю искусства с возможной полнотой вне зависимости от какой бы то ни было философской системы, познакомить читателя с развитием собственно художественных мотивов, выдвинуть на первый план их видоизменения при переходе из эпохи в эпоху, от народа к народу.
В „Истории искусства всех времен и народов“ К. Вёрмана впервые систематически рассмотрены проявления художественного творчества у первобытных племен. Именно этому посвящен первый том, который содержит в себе обзор художественного творчества у народов от незапамятных времен и до нашей эры, а также рассматривается искусство населения ряда азиатских и африканских стран до XIX в. н. э.
Сам Карл Вёрман писал, что взяться за такую работу его побудили особые обстоятельства. „С одной стороны, уже давно я чувствовал сердечное влечение еще раз возвратиться к искусству древнего мира – в область, к которой относились мои первые исследования и издания. С другой стороны, я ощущал некоторую внутреннюю потребность облечь наконец, при помощи изучения наших коллекций по народоведению, в плоть и кровь воспоминания, сохранившиеся во мне от прежних путешествий в отдаленные части света и на морские острова. Читатель этого тома, надеюсь, ясно увидит, что у меня было достаточно опытности для того, чтобы проверить и усвоить результаты чужих изысканий, на которые, само собой разумеется, я должен был опираться“.
Нужно заметить, что со времени написания сочинения в тех обширных областях, которые рассматриваются в первом томе, произошли новые открытия, которые подтверждают сказанное в нем, а также породили новые взгляды на прошлое. Однако это не умаляет достоинств исследований К. Вёрмана, а только дополняет его выводы и предложения автора.
Второй том этого сочинения посвящен истории искусства народов от времени возникновения христианства и до XVI в.; в третьем томе представлено развитие искусства с XVII столетия и по вторую половину XIX в.
В „Истории искусств всех времен и народов“ К. Вёрмана строго научная точность соединена с общедоступностью изложения. Сочинение К. Вёрмана – прекрасное руководство для людей, желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства; однако и для того, кто захотел бы специально изучить этот предмет, оно может служить пособием, благодаря не только своему содержанию, но и сопровождающему ему указателю сочинений, относящихся к разным частям истории искусства. Ценность книги К. Вёрмана увеличивается огромным количеством помещенных в ней иллюстраций, имеющих тесную связь с текстом.
История искусства всех времён и народов Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Едва ли не еще более поразительны постройки некоторых грызунов, например мыши-карлика, которая привешивает к камышу свои круглые гнезда, сплетенные из стебельков (рис. 1, а); но особенно замечателен в этом отношении бобр, по крайней мере североамериканский, строящий для себя жилище из палок, хвороста и ила у воды, на краю берега (см. рис. 1, а). Почти круглая или овальная хижина бобра возвышается в виде плоского купола; из двух входов в нее, имеющих вид неправильных арок, один так глубоко входит в воду, что не замерзает даже в самые суровые зимы. Еще изумительнее хижин бобра на земле его постройки в воде. Чтобы поддерживать около своих жилищ постоянный уровень воды, бобры устраивают искусственные пруды, отгораживая их настоящими плотинами от вод более высокого уровня, и наполняют их водой при помощи сооружений, напоминающих шлюзы, и длинных каналов. В Северной Америке наблюдались плотины приблизительно в 200 метров длиной, устроенные совокупным трудом несчетных поколений бобров. Никакие другие сооружения животных не походят до такой степени на сооружения человека, как эти постройки.
Но самые замечательные зодчие в животном мире – это некоторые породы птиц. Можно проследить целый ряд ступеней искусства пернатых, от незатейливых и неправильных гнезд одних (рис. 1, г) до отлично исполненных, так сказать сверхживотных построек других. Индейский ткач, гнезда которого, по словам Дарвина, "почти превосходят ткацкие изделия людей", сооружает свое висячее жилище из настоящей ткани, сделанной из твердых стеблей, причем устраивает иногда верхнее и нижнее помещения; общежительные птицы из породы ткачей в Южной Африке свои огромные дворцы-гнезда, служащие приютами для целых обществ, привешивают к ветвям деревьев (рис. 1, б), а портнихи различных видов сшивают свои гнезда из больших листьев по всем правилам искусства (рис. 1, в), причем пользуются растительными волокнами или случайно найденными нитками, изготовленными человеком; говорят даже, что они, при начале работы, прикрепляют эти нити посредством узелков. Портниха длиннохвостая, водящаяся в Индии, сама прядет себе нити из хлопка, работая клювом и когтями; итальянская портниха употребляет для той же цели паутину, обработав ее известным образом. Наибольшее сходство с человеком представляют, однако, различного рода австралийские шалашники, сооружающие "увеселительные хижины", или "дома для игр", которые, по-видимому, даже не служат им жилищем. Эти хижины абсолютно различны по форме. Взгляните внимательнее на танцевальный зал Ptilonorhynchus holoseriscus (рис. 1, е)! К полу, состоящему из плотно переплетенных веток, прикрепляются легкие, слегка сводчатые ходы, вроде беседки, причем длинные стороны этих беседок совершенно закрыты, а короткие открыты. Сплетаются эти своды из тонких прутьев, разветвления которых всегда бывают направлены наружу для того, чтобы внутри не было неровностей. Беседки всегда орнаментируются; особенно входы выкладываются самыми яркими и пестрыми украшениями, какие только могут найти птицы. Пестрые перья других птиц, лоскутки цветных материй, изделий человеческих рук, блестящие камешки и раковины улиток частью раскладываются между сучками, частью рассыпаются на земле перед входом. Если эти увеселительные домики, обыкновенно сооружаемые самцами, по мнению большинства естествоиспытателей, наблюдавших жизнь шалашников, строятся единственно для привлечения самок, то можно все-таки сказать, что хижины эти не достигали бы цели, если бы птицам не доставляли удовольствия такие пестрые создания их фантазии. Поэтому сторонники дарвиновской теории развития ссылаются на увеселительные домики австралийских шалашников более, чем на что-либо другое, для доказательства того, что стремление к искусству, подобно всем другим свойствам человека, наблюдается также и у существ, стоящих гораздо ниже его.
Мы отнюдь не намерены предупреждать выводы исследователей в этой области и готовы признать, что в некоторых из указанных явлений в жизни животных замечается стремление, близкое человеческому стремлению к искусству. Но это не мешает нам смотреть на это так называемое искусство животных с нашей собственной точки зрения. Прежде всего мы не должны забывать, что все примеры, приводимые в доказательство существования у животных склонности к искусству, составляют только исключения и что в области искусств, воспринимаемых зрением, стремление к играм и к сохранению вида, наверное, только у шалашников переходит в настоящее стремление к искусству. Это исключение тем более должно быть относимо к исключениям, подтверждающим общее правило, что обезьяны, животные, самые похожие на человека, не выказывают ни малейшей способности к искусству, несмотря на свою склонность к подражанию.
Но даже и "зодчество" у животных в огромном большинстве случаев служит только к удовлетворению их потребности в защите, питании и размножении. Постройки их – чисто утилитарные сооружения, обыкновенно не представляющие даже и основных начал художественной пропорциональности, без которой постройки самого человека не могут быть признаваемы искусством. Законы правильности, симметрии, соразмерности, если вообще и соблюдаются, то только приблизительно и случайно. Настоящим исключением могут считаться совершенно круглые места для игр и гнезда у некоторых птиц, хотя круглая форма получается здесь совершенно естественным образом и непреднамеренно от движения животных вокруг самих себя. В этом именно отношении единственное кажущееся исключение – шестигранные ячейки пчел. Самые основательные натуралисты, восхваляя правильность пчелиных ячеек, признают однако, что по вопросу об их сооружении не может быть речи о сознательном или бессознательном намерении пчел ради их собственного удовольствия соблюдать математически правильную форму. Пчелы, по словам Бюхнера, стремятся, по-видимому, только к тому, чтобы налепить "как можно больше ячеек при возможно меньшей трате воска, места и труда", что лучше всего достигается при шестигранной форме и пирамидальном дне ячеек. Вит Грабер предполагает даже, что первоначальная форма ячеек скорее цилиндрическая и что они лишь вследствие надавливания одних на другие сами принимают упомянутую правильно призматическую форму.
Наконец, следует указать и на то, что художественные произведения различных животных одного и того же вида – если вообще можно говорить о подобных произведениях у животных – никогда не носят на себе самостоятельного отпечатка, отличного от созданий подобных им существ, но всегда только повторяют, по слепому, внушенному природой побуждению, то, что точно таким же образом делали миллионы подобных же животных в течение тысячелетий; поэтому о развитии искусства у животных, хотя бы это развитие и должно было происходить в незапамятные времена, нельзя говорить, так как свобода творчества есть существенное условие искусства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




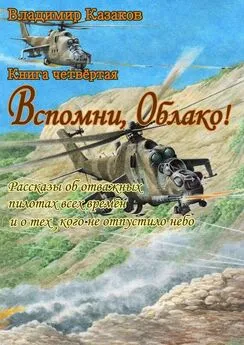

![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)


