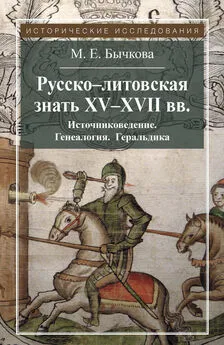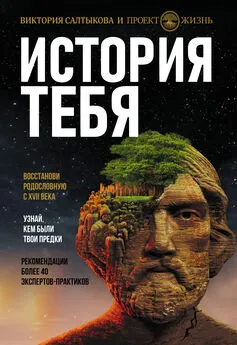Виктор Бычков - Русская средневековая эстетика XI‑XVII века
- Название:Русская средневековая эстетика XI‑XVII века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 5–244–00806–4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Бычков - Русская средневековая эстетика XI‑XVII века краткое содержание
Монография В. В. Бычкова—первое в отечественной и зарубежной науке систематическое исследование становления и развития духовной и эстетической культуры на Руси. К изданию книги привлечен редкий и богатый иллюстративный материал по истории художественной культуры Средневековья.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Виктор Васильевич Бычков (род. в 1942 г.), доктор философских наук, руководитель научно–исследовательской группы "Неклассическая эстетика" Института философии Российской Академии наук, член Союза художников России, автор более 140 научных работ — 60 из которых опубликовано за рубежом —по раннехристианской, византийской, древнерусской культурологии, эстетике, искусствознанию.
Основные работы:
Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1977 (итал. изд. — 1983; болт. — 1984; венг. — 1988; серб., дрполн. — 1991);
Эстетика поздней античности. II — III века (Раннехристианская эстетика). М., 1981 (рум. изд. — 1984); Эстетика Аврелия Августина. М., 1984;
Эстетическое сознание Древней Руси. М., 1988;
Эстетика в России XVII века. М., 1989;
Эстетический лик бытия (Умозрения Павла Флоренского). М., 1990; Смысл искусства в византийской культуре. М., 1991 (с библиографией работ автора);
Малая история византийской эстетики. Киев. 1991 (с библиографией работ автора).
В настоящее время В. В. Бычков продолжает работу над "Историей православной эстетики".
Русская средневековая эстетика XI‑XVII века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, славянский мир уже у истоков своего существования воспринял понимание философии как единства знания и дела, теории и практики; как единства античного и христианского духовных начал.
Истинная мудрость, по Константину, как способствующая совершенствованию человека, не просто полезна, она возводится им в разряд высших, внеутилитарных духовных ценностей, она прекрасна. По утверждению агиографа, она предстала еще отроку Константину во сне в облике прекрасной девы. Рассмотрев показанных ему во сне сверстниц, будущий философ «видех едину краснеишу всех лицем светящуся и украшену вельми монисты златыми и бисером и въсею красотою, ей же бе имя Софиа, сиречь мудрость», ее–тο он и избрал (ЖК 3).
Осознание неразделенности мудрости и красоты, узрение их глубинного единства уже на раннем этапе становления славянской эстетики знаменательно. Именно под знаком этого единства и суждено будет формироваться и достичь своих высот древнерусскому эстетическому сознанию на путях его практического выражения.
Более того, П. А. Флоренский усмотрел в символе Софии, благоговейно пронесенном Кириллом–Константином через всю его жизнь и переданном затем Киевской Руси, «первую сущность младенческой Руси, имевшей восприять от царственных щедрот византийской культуры». Со времен древнего Киева и древнего Новгорода, строивших свою духовную жизнь вокруг храмов Св. Софии, образ Софии–Премудрости лег в основу одной из «двух основных идей русского духа» [69] Флоренский П. Собр. соч. Т. I. С. 70—71.
. Другой идеей, по Флоренскому, стала идея Троицы уже в московский период (со времени Сергия Радонежского).
Одна из действенных форм выражения и сохранения мудрости—письменное слово. Поэтому славяне так высоко чтят принесшего им славянскую письменность Константина Философа, а самую письменность осознают как высочайшую ценность, дар Божий, который «честнешии паче всего злата и сребра, и камения драгаго и богатьства преходяшаго» (ЖК 14).
Своя письменность позволила славянам перевести на родной язык книги, напитанные духом мудрости, содержащие сакральные истины, до того времени передававшиеся только на греческом, еврейском и латинском языках. Присоединение к ним еще и славянского—а по агиографическому преданию славянские буквы «открыл» Константину сам Бог (14)—включало славян в их собственном представлении в группу избранных народов, которым доверена божественная мудрость. Теперь и они могли «досьти наслаждь» (досыта наслаждаться), по выражению агиографа, «медвеныа сладости словесы святых книг» (10).
Итак, у автора одного из первых славянских текстов («Житие Константина» написано в последней третий IX в.) мы находим поле взаимосвязанных понятий—философия (как единство слова и дела), мудрость, красота, письменность, сладость (наслаждение). Оно и характеризует тот пласт эстетического сознания, который начал возникать в IX в. на стыке византийской и славянской культур. Это по существу уже не византийская в строгом смысле слова, но еще и не славянская эстетика, точнее, это славянская интерпретация византийской эстетики. Именно ее унаследовала впоследствии от южных славян и Древняя Русь.
Одна из главных проблем византийской эстетики, особенно активно обсуждавшаяся в VIII‑IX вв., также нашла свое отражение в тексте «Жития Константина», свидетельствуя о том, что и славяне не остались к равнодушными. Речь идет о проблеме образа (гл. 5), обсуждаемой на диспуте между Константином и Иоанном Грамматик (Аннием). И хотя идеи, изложенные здесь в основном традиционны, принадлежат скорее всего самому Константину [70] См.: Dujcev J. Constantino‑Filosofo Cirillo et Giovanni VII Grammatico/ЗРВИ. Т. XII. 1970. Подробному анализу этого диспута в контексте византийской иконоборческой проблематики посвящена статья: Thummel Н. G. Die Disputation iiber die Bilder in der Vita des Konstantin 11 BS. T. 46. Fasc. 1. 1985. S. 19—24. Г. Тюммель приходит к выводу, что в частностях аргументация Константина носит оригинальный характер (Ibid. S. 24).
, а не автору «Жития», тем не менее важно и значимо для истории славянских культур, что агиограф счел необходимым именно их включить в свой текст.
Из достаточно широкого круга вопросов иконоборческой проблематики автор «Жития» останавливается лишь на нескольких имевших, однако, как мы увидим в дальнейшем, важное значение для эстетики всего старославянского изобразительного искусства.
Один из упорных идеологов иконоборства, Иоанн Грамматик, выведенный в «Житии» под именем Анния, спрашивает Κонстантина: почему если крест разбит, то его частям никто не поклоняется, а если на иконе дано только погрудное изображение, то иконопочитатели поклоняются ему как иконе? На это Философ ответил: «4 бо части кръст имееть и аще едина его чясть убоудет, то уже своего образа не имееть, а икона от лица образ являет и подобие того, егоже ради будеть писана. Не львова бо лица, ни рысьа зрить, иже видить, но прьваго образ» (ЖК 5). Речь здесь идет, как мы видим, прежде всего о сущности образа—о характере его соотнесенности с архетипом. Для Константина и автора его «Жития» она заключается в определенном изоморфизме, или в передаче образом характерных черт оригинала. Для креста—это его четырехконечная форма; для человека—его лицо.
Именно в нем запечатлены индивидуальные его особенности человека; лицом он и может быть наиболее полно представлен в образе. Поэтому сущность иконы святого (а именно о них идет речь в данном случае, а не о сюжетных иконах) заключена в его лике Пока сохраняется изображение лика, сохраняется ситуация изоморфизма, а следовательно, сохраняется и икона. Это сведение сущности иконы к лику станет впоследствии одним из основополагающих принципов древне–русского художественного мышления, во многом определит весь образный строй иконы.
Существенными для понимания эстетики иконы являются второй вопрос Анния и ответ на него Константина. Почему, интересуется старец, кресту мы поклоняемся, даже если на нем нет никакой надписи, «икона же, аще не будеть написано имени, егоже будеть образ, то не творите ей чьсти»? На это Константин дает краткий ответ: «…всяк бо кръст подобен образ имееть Христову кръсту, а иконы не имеють все образа единаго» (5).
Из этого лаконичного диалога можно заключить, что уже к последней трети IX в. надписи заняли прочное место на иконах и без них изображение практически не обладало в глазах верующего своим сакральным, то есть собственно иконным, значением. Надпись на иконе идентифицировала изображение, утверждала однозначность соответствия между образом и оригиналом и тем самым как бы удостоверяла истинность изображения.
Подобие облика и тождественность имени—вот в общем случае главные признаки адекватности образа для византийских иконопочитателей. А в связи с тем что подобие облика в византийской художественной практике IX в. было достаточно условным и речь могла скорее идти о подобии складывавшемуся к этому времени иконографическому типу, то надпись приобретала для иконы первостепенное значение. Эта мысль, собственно, и содержится в ответе Константина. Знаковая функция иконы, четко выражающаяся в надписи, выдвигается в славянском тексте на один уровень (если даже не выше) с миметической.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: