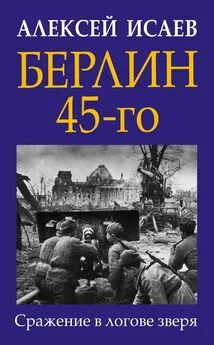Исайя Берлин - Философия свободы. Европа
- Название:Философия свободы. Европа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-132-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Исайя Берлин - Философия свободы. Европа краткое содержание
Со страниц этой книги звучит голос редкой чистоты и достоинства. Вовлекая в моральные рассуждения и исторические экскурсы, более всего он занят комментарием к ХХ столетию, которое называл худшим из известных. Философ и историк, Исайя Берлин не был ни героем, ни мучеником. Русский еврей, родившийся в Риге в 1909 году и революцию проживший в Петрограде, имел все шансы закончить свои дни в лагере или на фронте. Пережив миллионы своих земляков и ровесников, сэр Исайя Берлин умер в 1997-м, наделенный британскими титулами и мировой славой. Лучшие его эссе публикуются в этом томе.
Философия свободы. Европа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я снова возвращаюсь к самому главному фактору — к национальному самосознанию. В последние сто лет, несмотря ни на какие попытки к объединению народов, национализм был сильнейшей тенденцией и вытеснял буквально все остальные течения, устремленные к свободе, к безопасности, к власти, к сохранению традиций. Здесь мы не станем рассматривать его истоки; достаточно вспомнить известный факт: немецкий либеральный национализм конца XVIII — начала XIX в. приобрел ярко выраженную антинаполеоновскую окраску, особенно в 1815 г. Националистские тенденции сыграли роль в подавлении революции 1848 г. Без австро-венгерского шовинизма и без ущемленного национального самосознания французов в 1870 г. (да и в 1871-м тоже — Парижская коммуна его унаследовала в значительной степени), без союза национальных и капиталистических интересов в 1864–1914 гг., без русской революции и вызванного ею национального подъема в 1919 г. вся мировая история сложилась бы совершенно иначе.
Историю европейских рабочих движений нельзя отделять от судьбы партии, созданной Лассалем, которого Маркс справедливо подозревал в мягком отношении к немецкому Volksgeist [285]и в романтическом немецком национализме. Благодаря экономическому и социальному развитию своей страны, рабочие оказались втянутыми в этот поток и противостоять ему едва ли могли. Ленин и Роза Люксембург пережили глубокое потрясение, когда 1914 год разрушил надежды 2-го Интернационала. Однако причиной этого стало отчасти положение рабочих в Российской империи, в доиндустриальном обществе, отделенном от Западной Европы настоящей стеной. Националистские тенденции в России были весьма слабы в сравнении с западными, во всяком случае среди рабочих.
Там, где националистские течения были особенно сильными, они были в равной степени направлены против русских, австрийцев и немцев, сливаясь с австрийской русофобией. Мы знаем, что Ленин, Роза Люксембург и Мартов совершенно не испытывали националистических чувств. Ленин, точно так же как Троцкий (несмотря на все их противоречия, которые иногда просто выдуманы), видел ценность революции в том, чтобы она сломала во вражеской цепи слабое звено и послужила началом мировой революции, а не осталась фактом русской истории. Не о социализме в отдельно взятой стране мечтал Ленин; он был не большим русским националистом, чем Сталин — грузинским шовинистом или Мартов — сторонником зарождающегося еврейского национализма, всякие проявления которого он ненавидел и с особенным ожесточением подавлял всюду, где только мог. Урок, который можно вынести из истории, мне кажется, такой: социалистические революции увенчиваются успехом там, где социального и национального врага можно распознать, где лишение политических и человеческих прав, нищета и угнетение совпадают до некоторой степени с национальной дискриминацией, где все беды народа могут быть приписаны иностранным эксплуататорам в той же степени, что и своим, местным тиранам. Возможно, в Британии и в «Белом содружестве», в Скандинавии и в Северной Америке марксистские течения наиболее слабы, потому что в этих странах нет «взрывоопасной смеси» — роста социальной дискриминации одновременно с национальными обидами.
Произошел курьезный парадокс: доктрина русского неоякобинца Ткачева, сурово разоблаченного Энгельсом в 1875 г., определила программу действия, которую Ленин, сознательно или нет, осуществил в 1917-м. А планы полумарксиста, демократа и сторонника постепенных социальных преобразований Лаврова, к которому Энгельс благоволил, оказались совершенно непригодными для России, но идеально подошли к ситуации в Западной Европе и превратили воинственный марксизм в относительно мирное, практически фабианское учение. Если это и есть «диалектические повороты истории», то едва ли такие, каких ожидал Маркс. Никто не говорил чаще него и проницательней не рассуждал о ненамеренных последствиях человеческих действий; и все же не совсем понятно, какой вывод бы он сделал, несмотря на всю свою веру в применение силы, из того, что его учение развилось в нечто совсем иное, по крайней мере, в экономически отсталых странах. Маркс говорил о свободном обществе, которое станет самым сладким плодом человеческой цивилизации и венцом прогресса, об обществе, в котором не будет классов, люди будут свободны и получат полную власть над природой. Однако там, где его учение проводили в жизнь, применялись такие методы, какие присущи лишь диким и незрелым обществам. Ведь в России, в Китае и на Балканах проводилось в жизнь учение 1847–1850 гг.; там не было «масс» в марксистском понимании, лидеры-социалисты не имели социальных и политических обязательств ни перед кем, а социалистические партии, куда входили в основном интеллигенты, могли действовать сами по себе.
Предложу предварительное соображение. Все это, по крайней мере отчасти, сработало в России — сидя в тюрьме и не видя окружающего мира, обретаешь истовую веру и становишься фанатиком. Так верил Бланки, так верил Грамши; таким было положение немецких революционеров 1840-х и 1850-х, таким было положение русских социалистов-революционеров в 1890-е. В Германии, Франции, Австро-Венгрии, Британии, Бельгии и Голландии к тому времени уже сложилось массовое общество, но сложились и националистские тенденции со своими религиозными институциями и национальным самосознанием, рос уровень благосостояния, в экономике царила стабильность, так что радикальных взглядов практически не было. Границы между классами, вопреки теории Маркса, постепенно размывались, а лидеры чувствовали ответственность за повседневную жизнь сотен и тысяч членов большой, хорошо организованной, мирной социал-демократической или рабочей партии.
В Западной Европе отказываться от сотрудничества с буржуазией, отрицать постепенные преобразования (рабочие обеспечат себе победу лишь своими собственными усилиями или не победят вообще) было невозможно. Но в отсталых странах по очевидным причинам положение оказалось иным. В 1880-е гг. наблюдался упадок свободной торговли и социальной мобильности, рост протекционизма и государственного контроля, военного империализма и объединения политических элит, включая профсоюзы и националистские организации, — другими словами рост централизации, который Маркс предсказал удивительно точно; но этот рост оказался уравновешен другими факторами. Рабочие лидеры, в том числе и марксисты, находились, возможно о том не подозревая, на мирной арене; разные интересы не приводили к столкновениям, поскольку всегда можно было найти компромисс, и такие понятия, как плюрализм, стремление к согласию, несовершенное, но допустимое сосуществование с другими классами, принимали без возражений. Ослабла вера в то, что одна группа людей, то есть пролетариат, олицетворяет все наше будущее, что пролетарии — избранное орудие в руках самой истории и препятствовать их воле (как понимают ее пролетарские вожди) — это грех против духа человеческого. Да и сам марксизм постепенно смягчался, превращаясь в обычный материалистический позитивизм, в простую историческую теорию. Теория эта не претендовала на определение главных ценностей и поэтому могла соединяться (правда, не без труда) с другими этическими системами — неокантианством, христианством, эгалитаризмом или национализмом. Так — спокойно, без шума — завершил свой путь 2-й Интернационал, и даже убийство Жореса не вызвало никаких взрывов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





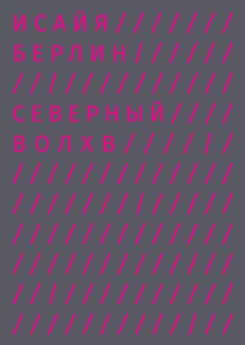

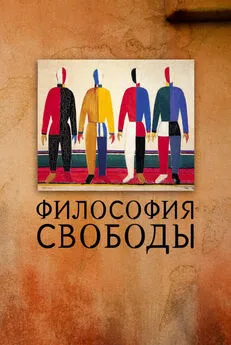
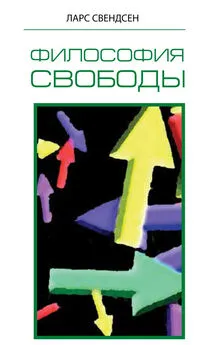
![Алексей Исаев - Берлин 45-го [Сражение в логове зверя] [litres]](/books/1074027/aleksej-isaev-berlin-45.webp)