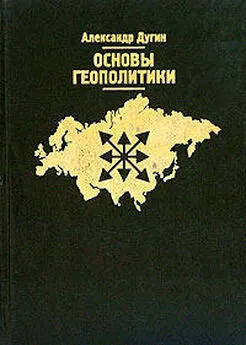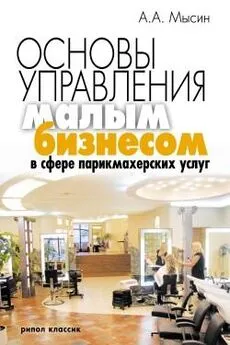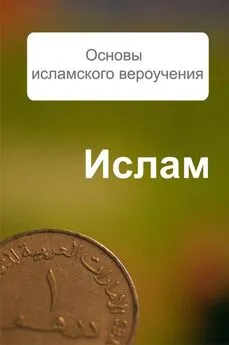Александр Хроленко - Основы лингвокультурологии
- Название:Основы лингвокультурологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89349-681-9, 978-5-02-033116-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Хроленко - Основы лингвокультурологии краткое содержание
В книге характеризуются базовые понятия новой научной и учебной дисциплины-лингвокультурологин (культура, ментальность, картина мира, этническая принадлежность), показаны аккумулирующие свойства слова и связанные с этим возможности естественного языка, обсуждаются проблемы защиты языка и культуры, демонстрируется эффективность комплекса авторских методик получения лингвокультурной информации. Лингвокультурология в вузах и школе органично дополняет основные курсы теории языка и культурологии.
Дня филологов и культурологов, преподавателей, аспирантов и студентов.
Основы лингвокультурологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наш соотечественник Василий Яковлевич Ерошенко (1890–1952) вошёл в историю китайской литературы, признан как поэт в японском литературном мире. Ему уделено место в «Энциклопедии современной японской литературы».
В серии «Амурская библиотека поэзии»– вышла книга стихов уникального «русского поэта китайского гражданства» Ли Янлена. Это единственный сегодня и второй в истории Китая поэт, пишущий стихи на русском языке. В 1994 г. в Благовещенске вышел сборник его стихов «Я люблю Россию» [Книжное обозрение. 1996. № 36. С. 4].
Французский поэт Анри Абриль (1947) недавно издал сборник на русском языке без перевода под названием «Русские стихи». Поэт перевел на французский язык Пушкина, Блока, Мандельштама, Тарковского, Цветаеву, Пастернака. Абриль – поэт, для которого оба языка, русский и французский, стали родными [Известия. 1996.19 июня. С. 7].
Итальянец Марио Корти, журналист с «Радио Свободы», музыковед и историк правозащитного движения в России, написал на русском языке книгу «Дрейф» (М., 2002). Это эссе, автобиография, путешествие по эпохам и культурам [Книжноеобозрение. 2002. № 19. С. 19).
В 1995 г. впервые в истории главной литературной премии Франции – Гонкуровской, ежегодно присуждаемой с 1903 г., удостоен российский писатель Андрей Макин за роман «Французское завещание», написанный на французском языке.
Требует глубокого и непредвзятого анализа опыт русскоязычного поэта Иосифа Бродского, во вторую половину своей творческой жизни перешедшего на английский язык, завоевавшего почетное звание лучшего поэта Америки, переводившего свои русские стихи на английский язык. Он признавался» что писать по-русски для него более естественно, по-английски – элемент «кроссворда»; весь вопрос в эстетической ценности этого «кроссворда». Именно Бродский припомнил английскую пословицу о языке: «Покинешь меня – погибнешь» [Книжное обозрение. 1996. № 6. С. 2].
Логичен вопрос, может ли шедевр, великое художественное произведение быть написано не на родном языке. Двуязычный Пушкин, получивший в лицее прозвище Пушкин-француз и в дворянском быту по обыкновению того времени пользовавшийся французским языком, писал только на русском языке. И.С. Тургенев» большую часть зрелой жизни проживший за рубежом, был уверен, что творить можно единственно на родном языке: «Как это возможно писать на чужом языке – когда и на своём-то, на родном, едва можешь сладить с образами, мыслями и т. д.» [Тургенев 1966: 86]. Письма Тургенева на французском, немецком и английском языках были, по признанию носителей этих языков, стилистически совершенны. Ему принадлежат стихотворения, тексты оперетт, критические этюды, детские сказки и куплеты по-французски и по-немецки, но всё это лежало на периферии его творчества, а шедевры писались только по-русски.
Выводы учёных, исследовавших иноязычные произведения великих и известных поэтов и писателей, практически совпадают созданное на неродном языке заметно уступает тому, что сложилось на родном. Это обстоятельство пытаются объяснить тем, что человеку по-настоящему дано знать только один язык. Б. Шоу считал: «Не существует человека, который, хорошо зная свой родной язык, был бы способен овладеть другим» (Цит.; (Алексеев 1984: 9]). Мнение Б. Шоу совпадает с выводом-советом великого русского писателя И. Бунина: «…Пишите на том языке, с которым родились и выросли. Двух языков человек знать не может. Понимаете, знать, чувствовать всякую мельчайшую мелочь, всякий оттенок… Что, можете вы, например, подмигнуть читателю по-французски?» (Цит.: [Адамович 1988: 183–184]).
Столь же категоричен и современный поэт А. Вознесенский: «Стихи – это то, что нельзя написать на чужом языке. Это – неподконтрольное. Это – высшее, где уже не материя, а дух языка кричит, не прикрытый коронным “приемом” автора, что иноязычно не выразить ни Пушкину, ни Цветаевой, ни Рильке – не сумели этого, – в стихах прорывается непереводимое, голое чувство, тоска, судьба, а не литература, вопит слово “выть” – такое редкое для хрустального интеллектуализма художника <���…> Каждый, кто пробует писать стихи на неродном языке, расплачивается банальностью за кощунство. Для меня, например, это – святотатство, я никогда не писал стихов по-английски, если не считать пары шуточных» [Вознесенский 1989: 97].
Муки писателя, в зрелом возрасте меняющего язык творчества, описал В. Набоков, который в эмиграции перешёл на английский: «Совершенно владея с младенчества и английским и французским, я бы перешёл для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Конрад, который до того, как начал писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовался готовыми формулами. Когда, в 1940 году, я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишним лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток паевое орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого – или Иванова, няни, русской публицистики – словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, – и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставания с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня» (Набоков 1990:133]. Оценки англоязычного творчества самого В. Набокова противоречивы. А. Вознесенский считает английские стихи Набокова неудачными [Вознесенский 1989:97], а другой поэт Евг. Витковский назвал чуть ли не лучшим стихами XX в. поэму, которой начинается английский роман В. Набокова «Бледное пламя».
Психолог Б.Г. Ананьев объясняет этот феномен законом психической асимметрии: ведущим языком билингва является тот, в котором проявляется наибольшее соответствие между мышлением и языковыми средствами. Остальные языки функционально слабее, и им отводится подсобная роль [Ананьев 1966]. Установлено, что в освоении материнского языка участвуют оба полушария, а в освоении любого следующего – в основном, левое. «Только на родном языке можно петь, писать стихи, признаваться в любви… На чужом языке, даже при отличном его знании, можно лишь преподавать язык, разговаривать о политике и заказывать котлету. Один язык у человека – два языка не покажешь» (А. Битов. Уроки Армении).
Существует, однако, и прямо противоположное мнение. Например, русская писательница Н. Берберова рассуждает так: «Набоков – единственный из русских авторов (как в России, так и в эмиграции), принадлежащий всему западному миру (или – миру вообще), не России только. Принадлежность к одной определенной национальности или к одному определенному языку для таких, как он, в сущности, не играет большой роли: уже 70 лет тому назад началось совершенно новое положение в культурном мире – Стриндберг(в “Исповеди"), Уайльд (в “Саломее”), Конрад и Сантаяна иногда, или всегда, писали не на своём языке. Язык для Кафки, Джойса, Ионеско, Блакета, Хорхе Борхеса и Набокова перестал быть тем, чем был в узконациональном смысле 80 и 100 лет тому назад. И языковые эффекты, и национальная психология в наше время, как для автора, так и для читателя, не поддержанные ничем другим, перестали быть необходимостью. За последние 20–30 лет в западной литературе, вернее – на верхах её, нет больше "французских”, “английских” или "американских" романов. То, что выходит в свет лучшего, становится интернациональным. Оно не только тотчас же переводится на другие языки, оно часто издаётся сразу на двух языках, и – больше того – оно нередко пишется не на том языке, на котором оно как будто должно было писаться. В конце концов становится бесспорным, что в мире существует по меньшей мере пять языков, на которых можно в наше время высказать то, что хочешь, и быть услышанным. И на каком из них это будет сделано – не столь уж существенно» [Берберова 1990:546–547]. Правда, десятью страницами ниже Н. Берберова с горечью пишет о «безвоздушном пространстве» (отсутствии страны, языка, традиций).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: