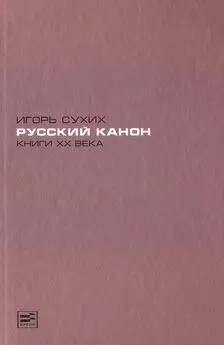Игорь Сухих - Русский канон. Книги XX века
- Название:Русский канон. Книги XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Время»0fc9c797-e74e-102b-898b-c139d58517e5
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1062-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Сухих - Русский канон. Книги XX века краткое содержание
Книга профессора СПбГУ, литературоведа и критика И. Н. Сухих включает тридцать очерков о наиболее значимых произведениях отечественной прозы и драмы серебряного и советского веков – от «Вишневого сада» Чехова и «Петербурга» А. Белого до «Прощания с Матерой» В. Распутина и «Генерала и его армии» Г. Владимова. Написанная в свободной эссеистической манере, книга, несомненно, будет интересна специалистам-филологам, преподавателям школ и высших учебных заведений, школьникам и просто читателям, неравнодушным к родному слову.
Русский канон. Книги XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И вдруг – снова вдруг! – он великодушно прощает жену, удаляется в деревню писать мемуары и до самого конца тянется душой к едва не погубившему его сыну.
Повествователь заглядывает еще дальше в будущее (примечательно, что не в эпилоге, а в начале седьмой главы). «Я недавно был на могиле: над тяжелою черномраморной глыбою поднимается черномраморный восьмиконечный крест; под крестом явственный горельеф, высекающий огромную голову, исподлобья сверлящую вас пустотою зрачков; демонический, мефистофельский рот! Ниже – скромная подпись: “Аполлон Аполлонович Аблеухов – сенатор”… Год рождения, год кончины… Глухая могила!..»
Набор масок, ракурсов, вариантов судьбы Аблеухова-сына еще больше. Исходный контраст дан в первой главе:
«– “Красавец“, – постоянно слышалось вокруг Николая Аполлоновича…
– “Античная маска… “
– “Аполлон Бельведерский”.
– “Красавец…”
Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили о нем.
– “Эта бледность лица…”
– “Этот мраморный профиль…”
– “Божественно…”
Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили друг другу.
Но если бы Николай Аполлонович с дамами пожелал вступить в разговор, про себя сказали бы дамы:
– “Уродище…”».
Вокруг оппозиции «красавец – урод» вырастает гора других определений, клубок метафор, мотивированных субъективно и ситуационно.
Надевая халат, блестящий студент превращается в восточного человека. Облачившись в заказанное красное домино, он видит в зеркале тоскующего демона пространства.
Прозреваемая дамами ипостась «урода» трансформируется в разных сценах в лягушонка, паука, шута, цыпленка, юркую обезьянку, гадину, толстобрюхого паука. Для террориста Дудкина Николай Аполлонович – мешковатый выродок и развитой схоласт. Отцу отпрыск представляется ублюдком, отъявленным негодяем, старообразным и уродливым юношей.
Но и второй – божественный – образ героя не забыт и не раз отыгрывается в фабуле. «Словом, были вы, Николай Аполлонович, как Дионис терзаемый», – шутит Дудкин. В седьмой главе раскаявшийся герой воображает себя в позе распятого Христа. В восьмой – из привычного облика вдруг «сухо, холодно, четко выступили линии совершенно белого лика, подобного иконописному».
Лицо героя то превращается в серию кривляющихся масок, то возвышается до богоподобного лика.
Аналогичны, хотя более просты, трансформационные серии персонажей второго плана. Дудкин – знаменитый террорист по кличке Неуловимый, гроза государственных чиновников, объект поклонения восторженных курсисток на Невском; и в то же время – бедный Евгений, очередной «маленький человек», преследуемый все тем же беспощадным Медным Всадником; и еще – одинокий философ, читатель Апокалипсиса и Ницше, придающий своему страшному делу оттенок поэтического величия.
Софья Петровна Лихутина – пустая, пошлая бабенка с роскошными формами, читательница модных книг, как попугай повторяющая слова «революция – эволюция». Но она же – прелестная женщина, провоцирующая Аблеухова-сына на самые эксцентрические поступки.
«Глазки Софьи Петровны Лихутиной не были глазками, а были глазами: если б я не боялся впасть в прозаический тон, я бы назвал глазки Софьи Петровны не глазами – глазищами темного, синего – темно-синего цвета (назовем их очами)». «Земная» и «небесная» ипостаси героини наглядно, даже навязчиво представлены повествователем в этом стилистическом ряду (глазки – глаза – глазищи – очи) и в ее прозвище Ангел Пери.
Ее муж – ограниченный офицер-служака («он заведовал где-то там провиантом»); но в другом ракурсе – тихий и бескорыстный влюбленный (что-то вроде чеховского Дымова из «Попрыгуньи»); а в следующем – романтический безумец, решившийся на самоубийство (впрочем, комически нелепое).
Эти лики и маски персонажей, кубистские портреты, контрастные формулы, внезапные сломы и трансформации можно было бы интерпретировать как литературный след Достоевского, его парадоксальный психологизм и фантастический реализм. Временами Белый четко обозначает этот след, прозревая в многоликости своих героев архетипическую основу. «В запертой комнатушке молча они задышали: отцеубийца и полоумный», – врывается, врезается в рассказ о свидании Лихутина и Аблеухова-сына обобщенная формула повествователя. Она – почти точная калька фразы-резюме свидания Раскольникова и Сони в «Преступлении и наказании»: «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги».
Автор «Петербурга», однако, лишь использует прием Достоевского, как в других случаях – приемы Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Повествовательная игра Достоевского (там, где она есть, – в «Бесах», «Братьях Карамазовых») обычно ведется внутри изображаемого мира. Повествователь ни на мгновение не подвергает сомнению реальность персонажей.
У Белого витальность героев постоянно преодолевается, их «бытийственность» все время ставится под вопрос. Потенциальные характеры регулярно превращаются не просто в типы и маски, а скорее в тени, в шахматные фигурки, игру с которыми ведет единственно реальный повествователь-демиург. Повествователь в «Петербурге» не играет в мире, а играет с миром . «Автор, развесив картины иллюзий, должен был бы поскорей их убрать, обрывая нить повествованья хотя бы этой вот фразою; но… автор так не поступит: на это у него есть достаточно прав.
Мозговая игра – только маска; под этою маскою совершается вторжение в мозг неизвестных нам сил: и пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки напугать иным, потрясающим бытием, нападающим ночью».
Бытийность сенатора – продукт мозговой игры автора, порожденье его фантазии. Аблеухов в свою очередь порождает праздную тень незнакомца, Дудкина: «Раз мозг его разыгрался таинственным незнакомцем, незнакомец тот – есть, действительно есть: не исчезнет он с петербургских проспектов, пока существует сенатор с подобными мыслями, потому что и мысль – существует». Дудкин и Аблеухов-младший ведут свои «мозговые игры». И вся эта матрешка воплощенных призраков, кавалькада теней угрожает читателю, тоже включаемому в шутовской хоровод: «Будут, будут те темные тени следовать по пятам незнакомца, как и сам незнакомец непосредственно следует за сенатором; будет, будет престарелый сенатор гнаться и за тобою, читатель, в своей черной карете: и его отныне ты не забудешь вовек!»
Известный подпоручик Киже родился из оговорки. Белый-повествователь тоже рождает персонажей из «воздуха» – сравнения, метафоры, «словесного сквозняка». «Я, например, знаю происхождение содержания “Петербурга” из “л-к-л – пп-пп – лл”, где “к” звук духоты, удушения от “пп” – “пп” – давление стен “Желтого Дома”; а “лл” – отблески “лаков”, “лосков” и “блесков” внутри “пп” стен, или оболочки бомбы. “Пл” – носитель этой блещущей тюрьмы: Аполлон Аполлонович Аблеухов; а испытывающий удушье “к” в “п” на “л” блесках есть “К”: Николай, сын сенатора. – “Нет, вы фантазируете!” – “Позвольте же, наконец: Я, или не я писал “Петербург?..” – “Вы, но… вы сами абстрагируете!..” – “В таком случае я не писал “Петербурга”: нет никакого Петербурга, ибо я не позволяю вам у меня отнимать мое детище: я знаю его с такой стороны, которая вам не снилась никогда”», – один из поздних (1921) полемических автокомментариев к роману. (Их было много, и они тоже подчиняются контрастному принципу. Ср. с этим «формализмом» ультрасоциологическое объяснение 1933 года: «Роман “Петербург”, отражающий революцию 1905 года, пропитан темой гибели царского Петербурга…»)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: