Илья Эренбург - Французские тетради
- Название:Французские тетради
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азбука
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-03560-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Эренбург - Французские тетради краткое содержание
«Французские тетради» Ильи Эренбурга написаны в 1957 году. Они стали событием литературно-художественной жизни. Их насыщенная информативность, эзопов язык, острота высказываний и откровенность аллюзий вызвали живой интерес читателей и ярость ЦК КПСС. В ответ партидеологи не замедлили начать новую антиэренбурговскую кампанию. Постановлением ЦК они заклеймили суждения писателя как «идеологически вредные». Оспорить такой приговор в СССР никому не дозволялось. Лишь за рубежом друзья Эренбурга (как, например, Луи Арагон в Париже) могли возражать кремлевским мракобесам.
Прошло полвека. О критиках «Французских тетрадей» никто не помнит, а эссе Эренбурга о Стендале и Элюаре, об импрессионистах и Пикассо, его переводы из Вийона и Дю Белле сохраняют свои неоспоримые достоинства и просвещают новых читателей.
Книга «Французские тетради» выходит отдельным изданием впервые с конца 1950-х годов. Дополненная статьями Эренбурга об Аполлинере и Золя, его стихами о Франции, она подготовлена биографом писателя историком литературы Борисом Фрезинским.
Французские тетради - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Золя в России куда больше читали и читают после Октябрьской революции. Я не очень люблю статистику, но когда я писал эти страницы, я все же позвонил в Книжную палату и справился, сколько изданий выдержали книги Золя за сорок восемь лет. Оказалось, что в Советском Союзе вышли двести сорок книг Золя на шестнадцати языках с общим тиражом восемнадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч.
Литературоведы много пишут о наблюдательности Золя, о грандиозности его замысла — дать панораму Второй империи, о Золя-экспериментаторе. К этому можно добавить рассуждения самого Золя — о научном подходе писателя к жизни. Может быть, все это верно, но это никак не объясняет любви читателей к романам Золя. Почему его читают, например, советские читатели в Одессе и в Братске, в Риге и во Владивостоке? Один из французов мне как-то сказал, что это познавательный интерес. Однако как ни любознательны русские читатели, нельзя себе представить такую любознательность, которая заставила бы сто миллионов человек в свободное время зачитываться романами для того, чтобы понять жизнь Франции сто лет назад. Это так же нелепо, как утверждать, что советские работницы плачут над «Анной Карениной» потому, что их интересует положение замужней женщины высшего общества сто лет назад. Любой советский школьник знает, что французские рабочие нашего времени не похожи на героев «Западни» или «Жерминаля», что разгром Франции в 1940 году нельзя объяснить картиной Седана, что Нану не сыщешь теперь даже с помощью наиопытнейшего полицейского из романов Сименона. Золя не понимал и не любил Стендаля, ему казалось, что отсутствие деталей быта и времени делает «Красное и черное» почти абстрактным. Это было одним из многочисленных его заблуждений, и это было постоянным заблуждением почти всех авторов различных стран и эпох, когда они рассуждают о работе чуждых им авторов. Между тем у Стендаля можно найти объяснение жизненности лучших романов Золя. Стендаль написал на полях рукописи «Люсьена Левена»: «Нужно сделать так, чтобы приверженность к определенной позиции не заслонила в человеке страстности. Через пятьдесят лет человек определенных позиций не сможет больше никого растрогать. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор». Золя умел показать клубок человеческих страстей, и эти страсти живы, они притягивают к «Жерминалю» или к «Чреву Парижа» молодых русских людей.
Золя был новатором, он во многом обозначил роман XX века. Писатели прошлого столетия, его современники не могли различить в нем нового, несхожего с тем, что они любили. Он писал очень много, писал быстро, у него легко найти и бессмыслицу, и банальные сравнения, и неряшливые фразы. Его «Руган-Маккары», которых не уместить на книжной полке, напоминают большой город, выросший на болотах севера, в Калифорнии или в сибирской тайге. Как ни удачны некоторые детали описаний, не в них дело, в городе, сразу разросшемся, много уродства, его нельзя судить по нелепости того или иного дома, часто лифты или холодильники опережают не только кресла, но даже мостовую. Но эти города живут, в них люди работают, радуются, страдают, любят, ревнуют, идут на различные преступления, и вот все романы Золя, удачные и неудачные, живут, как такие города.
Золя — новатор в архитектуре своих книг. Когда он умер, кинематограф был еще только занятной новинкой. В маленьких залах показывали, как человека со шлангом обливали водой. Золя предугадал то, что принесло нам киноискусство: монтаж, смены массовых сцен и крупных планов, замедления или ускорения. Золя — новатор и потому, что он первым ввел в свои романы физиологическую сторону героев, которая теперь переполнила литературу Западной Европы и Америки. Золя — новатор и в том, что понял, как роману человека придется потесниться, чтобы дать место социальному роману. И в наши дни, когда мы порой разворачиваем газеты до того, как распечатать письмо от любимого человека, мы понимаем зависимость любой жизни от сухого, нищего языка хроники, нот и телеграмм.
Говоря о влиянии Золя на литературу XX столетия, обычно руководствуются внешними признаками и упоминают Роже Мартен дю Тара, Голсуорси, Генриха Манна. Однако влияние Золя куда шире, его можно найти у писателей, прочитавших в молодости какой-либо роман Золя и забывших о нем, даже отвергающих его. Разве не процветала и у нас, а потом на Западе «литература факта»? Разве не увлекались у нас, а впоследствии во Франции теорией описания деталей, даже деталей житейского реквизита? Разве американская литература между двумя войнами не продолжила социальные темы Золя? Незачем говорить о советской литературе.
Свыше тридцати лет назад я писал книгу об автомобиле и, просматривая старые газеты, натолкнулся на описание поездки Золя из Парижа в Версаль в «фаэтоне без лошадей», я тогда писал: «У Золя седые волосы, но он куда моложе своего века. Астматически задыхаясь, он тщится заглянуть в новое столетие. Его собратья по перу описывают гаремы Константинополя, любовь среди древностей Тосканы, малейшие оттенки своих переживаний. Золя занят другим: жадно слушает он рев биржи, угрюмый скреб рудокопов, лязг машин. Поездка из Парижа в Версаль в фаэтоне без лошадей для него не опасный пикник, а разведка в двадцатый век».
В заключение хочу вернуться к словам Чехова. Я не знаю, можно ли провести черту между человеком и писателем. Литература слишком тесно связана с совестью. Можно без совести да и без сознания быть талантливым чеканщиком или знаменитым ювелиром, но не настоящим писателем. Золя был добрым человеком, и никакие зверства, которые он описывал, не могут этого скрыть. Большому писателю-новатору, хорошему и смелому человеку я хочу поклониться и за себя, и за миллионы моих соотечественников.
1966
О Гийоме Аполлинере
Современная лирическая поэзия Франции родилась во времена Бодлера, дала миру Верлена, Рембо, Аполлинера, Элюара. Сейчас эта поэзия понята и признана литературоведами различных тенденций и различных стран. Многие поэты, с которым мне приходилось встречаться, говорили, какую роль в их работе сыграли Бодлер, Рембо, Аполлинер — Мачадо, Альберти, Неруда, Мандельштам, Цветаева, Назым Хикмет. Самый крупный из ныне живых поэтов Франции, Арагон, разумеется, органически связан с новой французской лирикой.
Наши современники, русские читатели за редкими исключениями, знают французскую поэзию только по переводам. Итальянская поговорка, основанная на сходстве слов, гласит: «traduttore — traditore» — «переводчик — предатель». Это никак не значит, что переводчик ленив или невежествен. Говоря об искусстве перевода, Брюсов приводил слова Шелли: «Стремление передать создания поэта с одного языка на другой — это то же самое, как если бы мы бросили в тигель фиалку с целью открыть основной принцип ее красок и запаха. Растение должно возникнуть вновь из собственного семени, или оно не даст цветка — в этом-то и заключается тяжесть проклятия вавилонского смешения языков». (Это не помешало Брюсову бросать в тигель немало фиалок.) Разумеется, не все поэты непереводимы; одни из них в переводе, теряя многое, все же сохраняют некоторые свои черты, другие теряют все. Поэзия ораторская или философская, поэзия, изобилующая образами, более доступна для перевода, чем поэзия, построенная на сочетании слов, с их звучанием, со множеством ассоциаций, рождаемых тем или иным словом. Иностранцы, не владеющие русским языком, готовы поверить, что Пушкин и Лермонтов — великие поэты, но, читая переводы, они этого не чувствуют. Французы переводят стихи прозой. Представьте себе, что может дать четверостишие: «Я вспоминаю чудесную минуту, когда я в первый раз тебя увидал, это было мимолетной картиной, явлением гения чистой красоты». Из русских поэтов куда легче поддаются переводу столь не похожие один на другого Тютчев и Маяковский; сжатость глубокой мысли в стихах первого, пластичность образов и новизна ощущений второго доходят до читателя даже в прозаическом или полупрозаическом переводе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
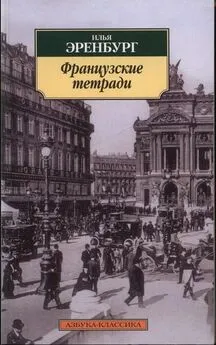

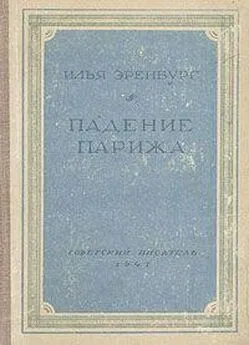
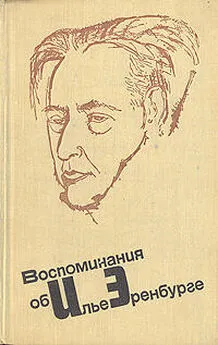
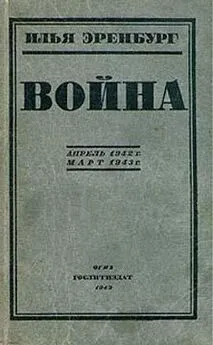
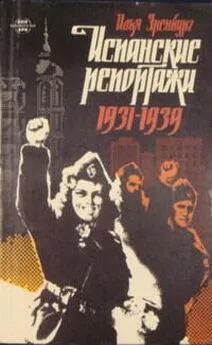
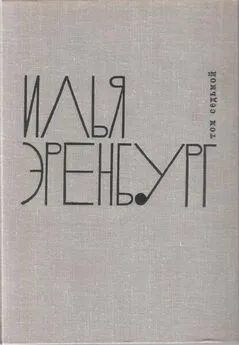
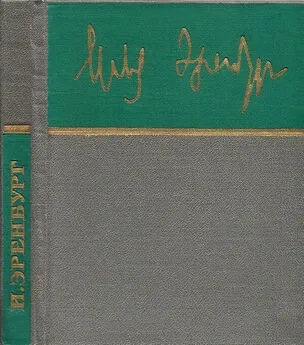
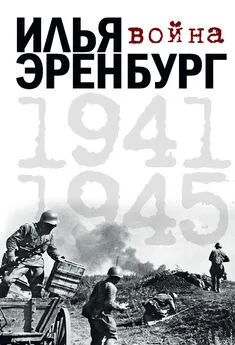
![Илья Эренбург - Шесть повестей о легких концах [старая орфография]](/books/1093982/ilya-erenburg-shest-povestej-o-legkih-koncah-star.webp)