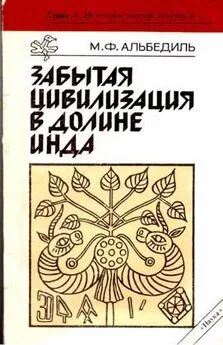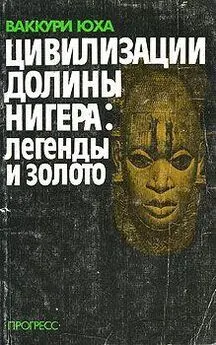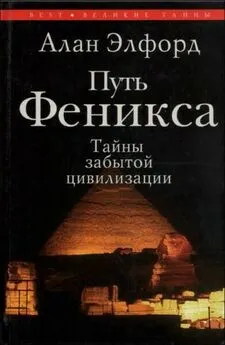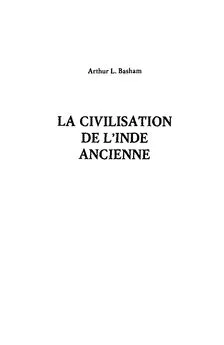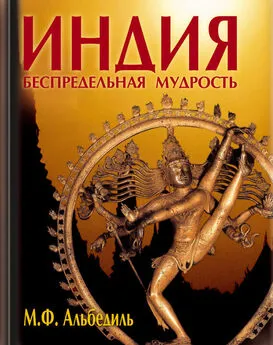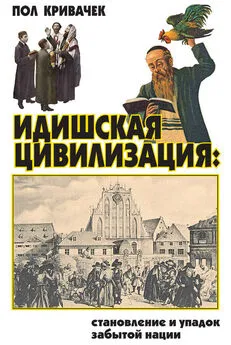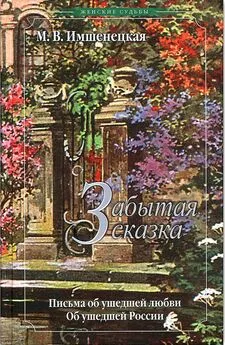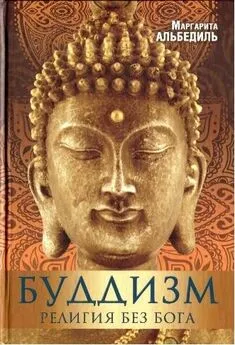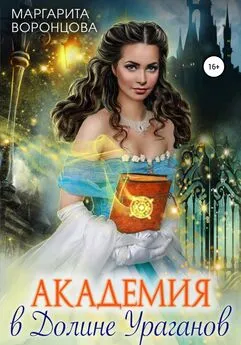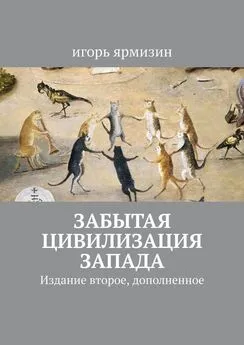Маргарита Альбедиль - Забытая цивилизация в долине Инда
- Название:Забытая цивилизация в долине Инда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Наука» С.-Петербургское отделение
- Год:1991
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-02-027307-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Маргарита Альбедиль - Забытая цивилизация в долине Инда краткое содержание
Книга посвящена одной из самых интересных и загадочных в истории древнего мира цивилизаций — протоиндийской, существовавшей в долине Инда в III–II тысячелетии до нашей эры. Читатель может познакомиться не только с последними результатами исследований этого неизвестного доселе фрагмента истории человечества, но и с неразрешимыми проблемами, вставшими перед учёными при дешифровке протоиндийской системы письма и языка, при рассмотрении вопросов экологии, мифологии, календаря, а также других историко-культурных тем. В книге общая панорама цивилизации, на фоне которой производятся сопоставления культуры архаической и нашей, современной.
Предназначена для индологов, историков, этнографов, а также широкого круга читателей, интересующихся историей мировой культуры.
Забытая цивилизация в долине Инда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Богиня-буйволица, супруга бога в дошедших до нас изображениях выглядит скромнее, чем её божественный супруг. В её облике подчёркивается не столько её «буйволиная принадлежность» (рогатый головной убор), сколько причастность её к мировому дереву и всему кругу связанных с ним представлений, о которых мы говорили выше. Согласно стандартному иконографическому образу, она изображается обычно обнажённой, стоящей под аркой с листьями дерева ашваттха или в развилке его ветвей. Контуры её тела часто схематизированы или показаны обобщённо, и это передаёт одну из особенностей иконографического канона: физическому облику божества не придаётся особого значения, важнее передать его существенные, характерные черты. По этой же причине мифический персонаж нередко изображается метонимически — какой-либо характерной чертой, например рогами буйвола можно было ограничиться, чтобы указать на присутствие бога-буйвола.
Протоиндийская религиозно-мифологическая система включала также пары и группы богов. Протоиндийский вариант близнецов, отражающий архаический близнечный культ, представлен, например, двумя мифическими персонажами у мирового дерева, свидетельства о нём есть и в надписях. Есть несколько групп богов, о существовании которых мы можем судить лишь по спискам их имён, их функции и облик остаются неясными, поэтому дальше неопределённых предположений, исходящих из этимологии имён, мы пока не можем пойти. Особо хотелось бы отметить группу мифических персонажей, называемых «предками, отцами», — это умершие обожествлённые предки, особо почтительным отношением к которым отмечена вся традиционная индийская культура.
Этот по необходимости краткий обзор показывает, что и дошедшие до нас фрагменты свидетельствуют о неоднородности протоиндийской мифологической системы, формировавшейся не одно столетие. Её осмысление и интерпретация — дело будущего, но при любой интерпретации останется незыблемым, что религиозно-мифические знания выполняли для протоиндийского общества ту же регулятивную функцию, какую для нас выполняет идея научного знания. Оно также ставило своей целью «служение человеку в его человеческих целях, чтобы возможно счастливее построил он свою мирскую жизнь, чтобы мог оборониться от болезни, всякого рода судьбы, нужды и смерти» [13, с. 108].
Глава 7
Время и пространство
Вот я и говорю, у нас что-то не так со временем, давай разберёмся.
Саша СоколовУ нас действительно «что-то не так со временем», это чувствуют все, особенно жители больших городов. Саша Соколов, показав масштаб, задающий шкалу, где «со временем так», одновременно связал с этим нравственную координату существования человека: «…чего убоюсь перед лицом вечности, если сегодня ветер шевелит мои волосы, освежает лицо, задувает за ворот рубашки, продувает карманы и рвёт пуговицы пиджака, а завтра — ломает ненужные ветхие постройки, вырывает с корнем дубы, возмущает и вздувает водоёмы и разносит семена моего сада по всему свету», — так говорит его герой Норвегов в «Школе для дураков» [42]. И далее, обвиняя «завшивевшее тараканье племя» и «безмозглое панургово стадо», он повторяет: «Говоря это, я беру в свидетели вечность» [там же].
Такое же противопоставление измеряемого времени и бесконечной, бездонной вечности звучит в поэзии, приобретая то философски отрешённую окраску (как у А. Фета: «…прямо гляжу я из времени в вечность»), то напряжённую (как у Б. Пастернака: «Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну. Ты — вечности заложник У времени в плену…»), то надрывно-смятенную (как у М. Цветаевой: «О как я рвусь тот мир оставить, Где маятники душу рвут, Где вечностью моею правит Разминовение минут»).
О категории времени в искусстве, культуре, науке XX в. нарисовано, сказано и написано немало. И хотя она стала одной из центральных тем, она по-прежнему с трудом поддаётся осмыслению, оставляя ощущение, что у нас со временем «что-то не так».
Знакомство с традиционными, особенно архаическими, культурами оставляет совершенно противоположное ощущение — у них со временем было так, как должно быть.
У них не было трагически воспринимаемого противопоставления вечности и быстротечных минут и дней. В чём же тут дело?
Мы помним, как Ньютон в своих «Началах» выдвинул идею абсолютного времени, которое течёт, как он утверждал, равномерно, ибо оно объяснялось бессмертием бога и другим быть не могло. Идея оказалась прочной, рассчитанной на века, и сейчас мы, измеряя абсолютное время часами, как бы неверно они не шли, не сомневаемся, что они точно отсчитывают равномерное время: ведь единственный критерий для сравнения оно само и есть! И хотя Эйнштейн вдребезги разбил ньютоновское абсолютное равномерное время, ньютоновско-картезианская парадигма продолжает господствовать и в науке, и в обыденной жизни, и именно ею продиктованы наши представления о времени. В чём они состоят? Прежде всего в том, что мы представляем время линейным, необратимым и направленным из прошлого в будущее.
Совсем иначе представляли время в архаических культурах. Типичный образец этих представлений — протоиндийская древность, и сохранились они лучше всего в календаре.
Для того чтобы понять, чем был календарь для жителей хараппских городов, надо вспомнить наши замечания о других формах памяти, помимо привычной для нас письменности. Мы уже говорили о том, что коллективная память в архаическом обществе была ориентирована на сохранение сведений о порядке, а не об отклонениях от него в виде всевозможных эксцессов, как память в нашей письменной культуре. При такой ориентации культуры на первый план выходил календарь, который фиксировал этот порядок и позволял сохранять его в коллективной памяти. Календарь протоиндийцев, разработанный со всем возможным тщанием, был замечательным феноменом их традиционной культуры и оставался в веках прекрасным хранителем традиционной социальной памяти коллектива. Он имел мощное организующее воздействие в системе хранения и передачи коллективного опыта поколений.
Каким же образом строили свою временную перспективу протоиндийцы? По каким ступеням причинной связи распределяли они время и как укрепляли их сводами чисел?
Первые исследователи хараппской культуры при всей своей глубокой эрудиции и отточенном интеллекте не воспринимали адекватно календарного смысла многих протоиндийских изображений и символов (письма тогда ещё не было дешифровано и тексты не читались) и видели в них лишь причудливую игру фантазии древних. Таковы были каноны научной традиции того времени, когда в умах господствовал окаменевший стереотип дикого туземца, дрожащего от страха перед слепыми силами природы, погружённого в пучину невежества и лишённого тех высот культуры, к которым были причастны сами учёные.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: