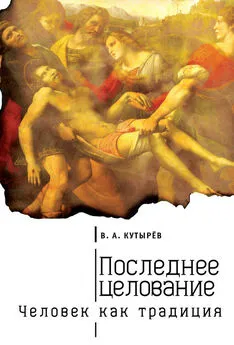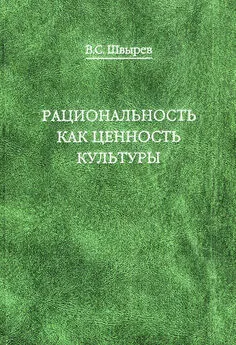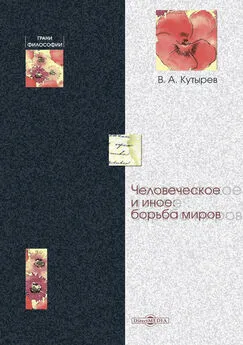Владимир Кутырев - Последнее целование. Человек как традиция
- Название:Последнее целование. Человек как традиция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9905768-9-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Кутырев - Последнее целование. Человек как традиция краткое содержание
Захваченные Великой Технологической Революцией люди создают мир, несоразмерный собственной природе. Наступает эпоха трансмодерна. Смерть человека не состоялась, но он стал традицией. В философии это выражается в смене Абсолюта мышления: вместо Бытия – Ничто. В культуре – виртуализм, конструктивизм, отказ от природы и антропоморфного измерения реальности.
Рассматриваются исторические этапы возникновения «Иного», когнитивная эрозия духовных ценностей и жизненного мира человека. Нерегулируемое развитие высоких (постчеловеческих) технологий ведет к экспансии информационно-коммуникативной среды, вытеснению гуманизма трансгуманизмом. Анализируются истоки и последствия «расчеловечивания человека»: ликвидация полов, клонирование, бессмертие.
Против «деградации в новое», деконструкции, зомбизации и электронной эвтаназии Homo vitae sapience, в защиту его достоинства автор выступает с позиций консерватизма, традиционализма и Controlled development (управляемого развития).
Последнее целование. Человек как традиция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Главной опасностью, исходящей от прогрессизма, стала установка: «все, что технически возможно, следует осуществлять». Это как бы само собой разумеется. Хотя даже ученые понимают, что все возможное не осуществляется. Гипотез, проектов, изобретений огромное количество, почти столько же, сколько самих ученых. Но их отбор происходит стихийно, по финансовым, коньюнктурным и другим случайным соображениям. В то время как нужно отбирать, соотнося с целями и благом человечества. Прежде всего, с фундаментальным для него благом – Быть. Сохраниться как высшая одухотворенная форма жизни. Если, конечно, хотеть сохраняться, а не превращаться в Иное.
В контексте философского фатализма идеологи технократии выдвигают против человека в сущности единственный, но чрезвычайно серьезный довод, о котором они иногда сами (надо отдавать должное) сожалеют: ПРОГРЕСС! Он неотвратим, его не остановишь. Так говорят о смерти, от которой все равно не уйдешь. Прогрессизм стал поистине «смертным», смертельным аргументом, как последний довод королей для их противников. Самоотрицание человека не благо, а зло, но поскольку оно неизбежно, то его надо признать благом – такова логика абсолютного детерминизма, отказывающего человеку не только в свободе, но и в субъектности. Конечно, как бы многие философы ни воспевали свободу, (по крайней мере, раньше, сейчас уже перестали), часто тоже как абсолютную, ни выстраивали на ней целые системы, она у человека невелика. И все-таки есть, хотя бы потому, что как показывает история гибели или процветания народов, цивилизаций, развитие неоднозначно, оно ветвится, подвержено случайностям и люди иногда даже вынуждены делать выбор. Неодинакова и не предопределена мера энергии осуществления выбранного варианта. Как индивид: каждый знает о своей будущей неотвратимой смерти, но ее можно сознательно приближать, вплоть до самоубийства, либо вести такой образ жизни, который ее отдаляет. Это делает каждый человек и может делать человечество. Технофаталистическая ориентация приближает его смерть, гуманисты должны отдалять, стремясь сохранить человека как личность или, по крайней мере, как актора. Это граница его Традиции, «дальше актора», после превращения в агента и сильного зомби, его, по-видимому, уже нельзя считать человеком. (О новом Средневековье, возвращении к героическому варварству, яростной, негарантированной жизни дикаря пусть мечтают палеофантасты).
В техногенном обществе принцип свободы приходится брать на вооружение экологам, гуманистам и антиглобалистам. Они верят, что в коэволюциии с искусственным человек способен, удерживая свою биологическую нишу, сохранить идентичность. Для этого надо выбирать и реализовывать такие стратегии поведения, которые бы ее не разрушали. Значит, к стихийному развитию искусственного надо относиться аналогично как к процессам природы. Пытаться познавать и овладевать им. Технонаука стала производительной силой и социальным институтом. Значит, она должна регулироваться подобно всем остальным сферам социальных отношений. Моралью, идеологией, законами. Это задача, которую осознают консерваторы, стремясь привлечь к ней внимание остальной части человеческого общества.
Ситуация выбора затрудняется растущей агрессивностью противников человека. Принимая вызов сложности, отвергая жизнь, они прокламируют этот выбор как единственно рациональный. Но бесчеловечная рациональность для человека иррациональна. Иррационализм – вот действительная характеристика положения человеческого фактора в сверхсложных нелинейных системах. Учитывая, что в ходе дальнейшего перерождения часть из них окончательно захочет «уйти в машину» и будет тащить за собой остальных, необходимо культивировать ценности плюралистического, разнонаправленного, разноскоростного развития. Ценности разнообразия, которое является условием выживания в быстроменяющейся среде. Несмотря на появление киборгов, личности и акторы должны заботиться об обеспечении возможностей для параллельного с ними существования. Подобно тому, как в эволюции живого после возникновения новых, поздних по времени, породившие их формы жили и живут рядом сотни тысяч лет, также может происходить и в техноэволюции, если в ней будут сохраняться разные ниши и ячейки бытия.
Перед наукой и техникой надо ставить социально-гуманитарные преграды, заслоны, фильтры, которые бы соотносили все их достижения с мерой человека. Не его приспосабливать к технике, а технику к человеку, беря во внимание не сиюминутные потребности в комфорте или исполнение капризов, а долговременные интересы. Когда-то иначе не могли и думать. Сейчас такой подход надо отстаивать, идя против течения. В ситуации выживания это естественно: по течению плывет уже дохлая рыба. Мораторий в технонауке, подобно мораторию на клонирование, должен быть не исключительным, а рутинным явлением для тех или иных направлений деятельности. Как и категорические запреты в зависимости от стадии исследований. Они могут предлагаться и обсуждаться общественностью, приниматься властными структурами регулярно, по крайней мере, не реже, чем например, присуждаться государственные или Нобелевские премии. Предусматриваемая международным законодательством ответственность за угрожающее человечеству наукотворчество должна подкрепляться социально-психологически, созданием атмосферы требовательного здравомыслия и критического восприятия стихийной экспансии технологизма. Особенно в отношении к непосредственным сферам жизни, таким как телесность самого человека, пол, любовь, ибо за сумерками любви следует закат человека. Ничего не любить и быть ничем, – говорил Л. Фейербах, – это одно и то же.
Тому, кто уже захвачен верой в свободу техники, а не человека, в неизбежность его подчинения отчужденным от него силам, полезно отрефлектировать свое личное поведение. В отношении собственной индивидуальной судьбы люди абсолютные фундаменталисты. Реакционеры до мозга костей (кто не самоубийцы). Каждый знает, к чему все идет, но сознательно туда не стремится. Живет вопреки тому, о чем говорит опыт и рассудок, поступая как крайне неразумное, иррациональное существо. Заботится о здоровье, стариках и детях, до последнего момента сажает деревья, строит дома и планы. Кто делает это хорошо, получает отсрочку. Потому что жизнь выше логического. Она первична и не обязана оправдываться перед своим следствием. Жизнь хочет продолжения по самой своей сути. Любовь к жизни выше поисков ее смысла и является условием его наличия. Таким же образом стоит относиться к судьбе родового человека, исходя, прежде всего из жизни и только потом – мысли. Здесь отсрочка, наше «раньше» или «позже», может равняться сотням лет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: