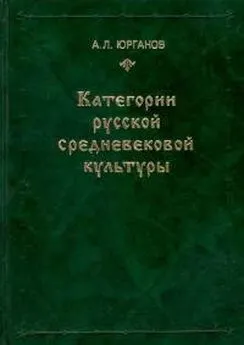Арон Гуревич - Категории средневековой культуры
- Название:Категории средневековой культуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арон Гуревич - Категории средневековой культуры краткое содержание
Во втором, дополненном издании книги (первое издание - 1972 г.) воссоздаются определенные аспекты картины мира людей западноевропейского средневековья: восприятие ими времени и пространства, их отношение к природе, понимание права, богатства, бедности, собственности и труда. Анализ этих категорий подводит к постановке проблемы человеческой личности эпохи феодализма. Под таким углом зрения исследуется разнообразный материал памятников средневековья, в том числе произведения искусства и литературы. Для специалистов - эстетиков, философов, искусствоведов и литературоведов, а также широкого круга читателей, интересующихся историей культуры.
Категории средневековой культуры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но довольно. Мы перечислили первые пришедшие на память явления средневековой жизни, которые не вяжутся с рационалистическим образом мыслей нашего времени, отнюдь не затем, чтобы лишний раз проиллюстрировать избитый тезис об «отсталости» и «дикости» средних веков. Мы хотели показать, что все эти средневековые «нелепости» и «несообразности» нуждаются в объяснении и адекватном понимании. Тенденция к парадоксальному перевертыванию привычных представлений об установленном порядке, о верхе и низе, о святом и мирском, характерная, по М. Бахтину, для карнавала, - эта тенденция обнаруживается в качестве неотъемлемой черты средневекового миропонимания. Этому восприятию действительности, по-видимому, органически присущи черты гротескности. Но гротеск здесь отнюдь не равнозначен комизму и мог быть никак не связан со смешным, - напротив, подчас, он был бесконечно от него далек. Современное сознание, которое отводит гротеску ограниченную роль изобразительного средства в области комического искусства, с трудом осваивается со средневековым миром непрестанной инверсии и воспринимает многие сцены, некогда порождавшие благочестивое изумление, в качестве комических. Нет лучшего показателя дистанции, разделяющей культуру средних веков и нового времени, чем это непонимание!
Необходимо попытаться раскрыть внутреннее содержание, сокровенный смысл этой культуры, далекой от нас не только во времени, но и по всему своему строю.
Сложность постижения духовной жизни людей этой эпохи не сводится только к тому, что в ней много чуждого и непонятного для человека нашего времени. Материал средневековой культуры вообще вряд ли поддается тому расчленению, к какому мы привыкли при изучении культуры современной. Говоря о средневековье, едва ли можно выделить в качестве достаточно обособленных такие сферы интеллектуальной деятельности, как эстетика, философия, историческое знание или экономическая мысль. То есть выделить-то их можно, но эта процедура никогда не проходит безболезненно для понимания как средневековой культуры в целом, так и данной ее области. В самом деле Учения о прекрасном мыслителей этой эпохи неизменно были ориентированы на постижение Бога - Творца всех видимых форм, которые и существуют не сами по себе, но лишь как средства для постижения божественного разума. Точно так же и история не представлялась уму средневекового человека самостоятельным, спонтанно, по своим имманентным законам развивающимся процессом, - этот поток событий, развертывавшийся во времени, получил свой смысл только при рассмотрении его в плане вечности и осуществления божьего замысла. Рассуждения ученых средневековья о Богатстве, собственности, цене, труде и других экономических категориях были составной частью этических категорий, что такое справедливость каково должно быть поведение человека (в том числе и хозяйственное), чтобы оно не привело его в конфликт с высшей и конечной целью - спасением души? Философия - «служанка Богословия», и в глазах средневекового философа такая ее функция долго являлась единственным ее оправданием, придавала глубокую значимость его рассуждениям.
Значит ли это, что все средневековое знание сводилось к Богословию и что изучение эстетической или философской мысли эпохи феодализма вообще невозможно? Конечно, нет! Но это означает, что, избирая объектом анализа художественное творчество либо право, историографию и другие отрасли духовной деятельности людей средних веков, мы не должны изолировать данную сферу этой деятельности из более широкого культурно-исторического контекста, ибо только в рамках этой целостности, которую мы называем средневековой культурой, можно правильно понять те или иные его компоненты. Богословие представляло собой «наивысшее обобщение» социальной практики человека средневековья, оно давало общезначимую знаковую систему, в терминах которой члены феодального общества осознавали себя и свой мир и находили его обоснование и объяснение.
Сказанное означает, далее, что средневековое миросозерцание отличалось цельностью, - отсюда его специфическая недифференцированность невычлененность отдельных его сфер. Отсюда же проистекает и уверенность в единстве мироздания. Подобно тому как в детали готического собора находила выражение архитектоника всего грандиозного сооружения, подобно тому как в отдельной главе Богословского трактата может быть прослежен конструктивный принцип всей «Теологической суммы», подобно тому как в индивидуальном событии земной истории видели символ событий священной истории, т. е. во временном ощущали вечное, - так и человек оказывался единством всех тех элементов, из которых построен мир, и конечной целью мироздания. В малой частице заключалось вместе с тем и целое, микрокосм был своего рода дубликатом макрокосма.
Цельность миросозерцания этой эпохи, однако, ни в коей мере не предполагает его гармоничности и непротиворечивости. Контрасты вечного и временного, священного и греховного, души и тела, небесного и земного, лежащие в самой основе этого миросозерцания, находили основу в социальной жизни эпохи - в непримиримых противоположностях Богатства и бедности, господства и подчинения, свободы и несвободы, привилегированности и приниженности. Средневековое христианское мировоззрение «снимало» реальные противоречия, переводя их в высший план всеобъемлющих надмировых категорий, и в этом плане разрешение противоречий оказывалось возможным при завершении земной истории в результате искупления, возвращения мира, развертывающегося во времени, к вечности. Поэтому Богословие давало средневековому обществу не только «наивысшее обобщение», но и «санкцию», оправдание и освящение (2, т. 7, 361).
По-видимому, применительно к средним векам самое понятие культуры нужно бы интерпретировать значительно шире чем это по традиции делается, когда изучают культуру нового времени. Средневековая культура охватывает не одни только эстетические или философские категории, не ограничивается литературой, изобразительным искусством, музыкой. Для того чтобы понять определяющие принципы этой культуры, приходится выходить далеко за пределы этих сфер, и тогда оказывается, что и в праве, и в хозяйстве, и в отношениях собственности, и во многом другом - в основе всей творческой практической деятельности людей можно вскрыть некое единство, вне которого остается не вполне понятной каждая из этих особых сфер. Все они культурно окрашены.
Вероятно, культуру любой эпохи можно рассматривать столь же широко - как всеобъемлющую знаковую систему Мы готовы с этим согласиться, но тем не менее будем настаивать на том, что для изучения средневековья применение принципа целостности является особенно необходимым Различные сферы человеческой деятельности в эту эпоху не имеют собственного «профессионального языка» - в том смысле, в каком существуют языки хозяйственной жизни, политики, искусства, религии, философии, науки или права в современном обществе. Вот несколько примеров. В средние века существует математика и, следовательно, язык математических символов. Но эти математические символы суть вместе с тем символы Богословские, ибо и самая математика длительное время представляла собой «сакральную арифметику» и служила потребностям символического истолкования божественных истин. Следовательно, язык математики не был самостоятельным, - он являлся, скорее, «диалектом» более всеобъемлющего языка христианской культуры. Число было существенным элементом эстетической мысли и сакральным символом, мыслью Бога.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: