Борис Хлебников - Новое недовольство мемориальной культурой
- Название:Новое недовольство мемориальной культурой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0432-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Хлебников - Новое недовольство мемориальной культурой краткое содержание
Новая книга немецкого историка и теоретика культурной памяти Алейды Ассман полемизирует с все более усиливающейся в последние годы тенденцией, ставящей под сомнение ценность той мемориальной культуры, которая начиная с 1970—1980-х годов стала доминирующим способом работы с прошлым. Поводом для этого усиливающегося «недовольства» стало превращение травматического прошлого в предмет политического и экономического торга. «Индустрия Холокоста», ожесточенная конкуренция за статус жертвы, болезненная привязанность к чувству вины – наиболее заметные проявления того, как работают современные формы культурной памяти. Частично признавая обоснованность позиции своих оппонентов, Алейда Ассман пытается выстроить такую мемориальную перспективу, в которой ответственность за совершенные преступления, этическая готовность разделить чувство вины и правовые рамки, позволяющие услышать голоса жертв, превращали бы работу с прошлым в один из важных факторов сознательного движения к будущему.
Новое недовольство мемориальной культурой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По верному наблюдению Вельцера и Гизеке, многое из истории национал-социализма еще не нашло должного освещения. Например, систематически не изучались судьбы людей, помогавших тем, кто подвергался репрессиям со стороны нацистского режима. Такие люди составляли весьма незначительное меньшинство, поэтому тем более важно, чтобы они не оказались забытыми. Ведь их не заботила память о себе; отсюда возникает необходимость целенаправленного поиска материалов о них в архивах. Эти люди служат образцом того, что даже в условиях «общества, осуществляющего геноцид» сохраняется возможность личного выбора и остается пространство для индивидуальных действий.
Внутри разных типов недовольства мемориальной культурой существует довольно широкий консенсус, направленный против любых форм морализаторства. Часто можно услышать, что морально-исторический пафос, который «был оправдан борьбой за сохранение памяти», ныне «устарел» [123]. «По возможности без морали» – озаглавлено интервью Харальда Вельцера, где он объясняет свое представление о будущем мемориальной культуры [124]. Если воспользоваться современным молодежным жаргоном, мораль может быть названа «жестью» и «отстоем»; во всяком случае, апелляция к ней представляется контрпродуктивной. Постоянно подчеркивается, что особенно молодежь проявляет аллергическую реакцию по отношению к моральным аспектам педагогики Холокоста: «Молодые люди хотят думать самостоятельно, а не выслушивать наставления о том, что им надлежит думать» [125]. Морализаторством, давно подлежащем сдаче в архив, занимаются, по мнению оппонентов, представители шестидесятников, которые якобы всеми силами стремятся на долгие времена навязать обществу собственные взгляды в качестве обязательных для молодежи, поскольку той, дескать, не хватает нравственных ориентиров и способности к сочувствию [126].
Парадоксальным образом такие высказывания сами соседствуют с крайним морализаторством. Например, Вельцер рекомендует молодежи читать воспоминания людей, которых нацисты подвергали репрессиям, но при этом придерживается невысокого мнения о свидетельствах тех, кто избежал репрессий: «Искажающие реальность, якобы аутентичные “свидетельства очевидцев” принесли много вреда. Я не считаю большой потерей, что эти голоса постепенно замолкают» [127]. Четким моральным различием между правильными и неправильными воспоминаниями Вельцер опережает вопросы и самостоятельное суждение молодого любознательного читателя. Полемизируя против морализаторства, не следует забывать, что мы сами не можем обойтись без морали. Неявное морализаторство имеет место там, где речь заходит о ложных чувствах, о приемах сокрытия правды, о неаутентичности воспоминаний. Разоблачители подобной неискренности или заблуждений слишком хорошо знают, где правда и где неправда, не заботясь об обосновании своих утверждений. Вместо обвинений в морализаторстве есть смысл сначала разобраться с основами собственной морали и попытаться явным образом сформулировать их.
Многие из моральных постулатов и очевидностей, на которые мы до недавнего времени полагались в надежном контексте больших идеологий, теперь утрачены. Моральный фундамент коммунизма разрушился в 1989 – 1991 годах вместе с крушением Берлинской стены и распадом Советского Союза. Моральный фундамент капитализма выстоял несколько дольше, однако затем и он пережил тяжелый кризис, начавшийся банкротством крупных банков и едва не приведший к коллапсу экономики целых государств. Глобализация, которая поначалу выглядела стабильным продолжением западной истории прогресса и модернизации, приобрела новые угрожающие черты после атаки исламистов на Всемирный торговый центр, что имело глобальные последствия и для мемориальной культуры.
Система моральных ценностей, сменившая политические идеологии, имеет универсалистскую природу. В ее основе лежат права человека, получившие с 1980-х годов признание в качестве фундамента западной культуры, существующего вне политических и национальных границ. С признанием такой ценности, как права человека, изменилось само политическое мировоззрение, средоточием которого все меньше служат воины-герои и во все большей мере – гражданские жертвы. В центре политического мировоззрения находятся теперь не идеологические утопии, уповающие на «нового человека», а сама уязвимость человеческой плоти, ставшей мишенью политического, расистского или сексистского насилия. Ален Бадью свел политический проект первой половины XX века к простой формуле: «С определенного момента этим веком завладела навязчивая идея изменить человека, создать нового человека». Сам проект был настолько радикален, что «при его осуществлении уникальность отдельной человеческой жизни просто не принималась в расчет – эта жизнь была лишь расходным материалом». Этот революционный, нацеленный в будущее проект мнил себя «грандиозным, эпическим, насильственным» [128]. Подписание Декларации прав человека в 1948 году в Париже стало прямым ответом на европейский опыт пережитого насилия. Декларация сформулировала моральные требования к мировому сообществу, но не предусматривала механизма для их реализации. «Если бы Декларация содержала подобный механизм, она бы никогда не была подписана» [129]. Поэтому понадобились десятилетия, чтобы идея прав человека получила опору в виде новых форм политической практики. Государства прежде не выступали адвокатами, способными защитить права человека, поэтому в 1960-е и 1970-е годы возникли влиятельные неправительственные организации, взявшие на себя данную роль. Другой пример – матери и бабушки, проводившие демонстрации в Буэнос-Айресе в защиту убитых и пропавших сыновей и внуков, которых диктаторский режим бросал в застенки, которые были убиты или пропали без вести; такие демонстрации протеста вылились в новые формы политического действия. Парадигма прав человека вывела из забвения и другие жертвы истории, чьи судьбы и страдания обрели общественное признание. Парадигматическим примером смены исторической перспективы, когда общественное внимание переключается с героев на жертвы политического насилия, стали свидетельства людей, переживших Холокост; эти свидетельства получили всемирное признание, их начали систематически собирать и записывать.
Бадью, продолжая восхвалять насилие «героического коммунизма», с отвращением взирает на нашу современность, где доминируют ценности семейного счастья и прав человека; он осуждает эту современность как изнеженную (женственную), политически истощенную и нежизнеспособную. В противоположность ему мораль тех, кто видит себя живущими в постидеологическую эру, основывается на ценности индивидуальной человеческой жизни независимо от национальной, культурной или религиозной принадлежности человека. Новая мемориальная культура заключила союз с политикой, защищающей права человека, которые стали ценностным фундаментом и ориентиром для будущего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
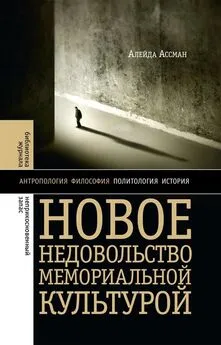

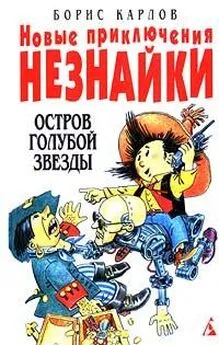
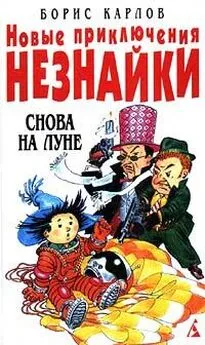
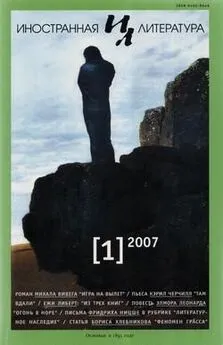
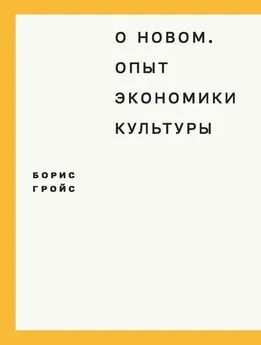
![Борис Антонов - 1712 год – новая столица России [Энциклопедически записки] [litres]](/books/1068149/boris-antonov-1712-god-novaya-stolica-rossii-enc.webp)