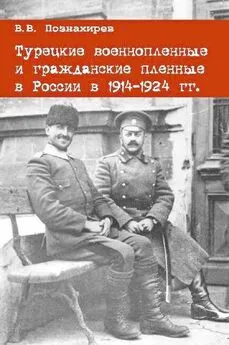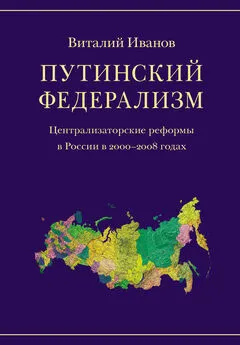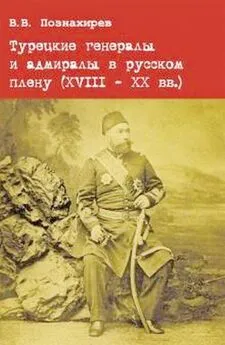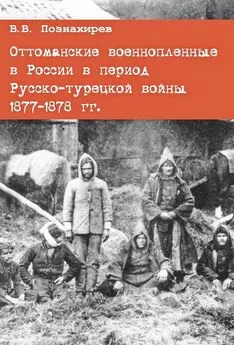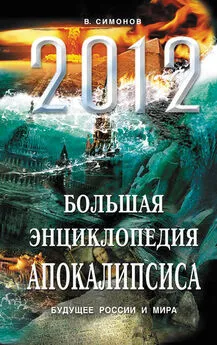Виталий Познахирев - Турецкие военнопленные и гражданские пленные в России в 1914–1924 гг.
- Название:Турецкие военнопленные и гражданские пленные в России в 1914–1924 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Нестор-История
- Год:2014
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-4469-0387-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Познахирев - Турецкие военнопленные и гражданские пленные в России в 1914–1924 гг. краткое содержание
На обширном материале, извлеченном из фондов 20 архивохранилищ бывшего СССР, и свыше 100 источников, опубликованных в Великобритании, Германии, США, Турции и других странах, воссозданы порядок и правила управления контингентами названных лиц, начиная с момента их пленения (установления над ними административного надзора) и заканчивая репатриацией или натурализацией. Главное внимание уделено особенностям положения турок в сравнении с представителями иных Центральных держав, а равно влиянию этноконфессиональной принадлежности оттоманских пленников на условия их содержания.
Книга адресована как специалистам-историкам, так и всем тем, кто интересуется событиями Первой мировой войны, проблемами военного плена и интернирования, а также прошлым российско-турецких отношений.
Турецкие военнопленные и гражданские пленные в России в 1914–1924 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Что же касается антибольшевистских сил, то турки служили и в их рядах, особенно, на Кавказе и в Средней Азии. Так, о них эпизодически упоминает в своих мемуарах Б. М. Кузнецов, находившийся в 1918 г. в Дагестане и стоявший у истоков создания вооруженных сил Республики союза горских народов: «одно орудие было специально набрано из пленных турецких солдат-аскеров. Это были люди уже почти обученные и единственные, кто носил подобие формы» [760] Кузнецов Б.М. 1918 год в Дагестане: гражданская война // Сопротивление большевизму. 1917–1918 гг. / Состав., науч. ред., предисл. и комментар. С.В. Волкова. М.: ЗАО Центрполиграф, 2001. — С. 515, 522.
. В Азербайджане в это же время в распоряжении мусаватистов находилась, по крайней мере, одна рота, сформированная из турецких военнопленных и именуемая «Борчалинской» [761] Шаумян С. Бакинская коммуна. Баку: Ист. парт. отдел ЦК и БК АКП (б), 1927. — С. 31–32.
.
Однако самой многочисленной турецкой воинской частью, из числа участвовавших в гражданской войне в России, следует признать сформированный в Бухарском Эмирате в 1919 г. полк «Сырбазы пиада». Как следует из доклада политического руководителя Отдела военного контроля Главного штаба войск Туркестанской республики Главнокомандующему войсками о военно-политическом положении в Эмирской Бухаре от 30 июня 1919 г., его численность «в точности установлена в 1 250 человек. В полку всего 10 человек бухарцев и состоит он главным образом из турок. <���…> Офицерский состав усилен 10 офицерами-турками <���…> Полк считается с военной точки зрения первоклассным и лучшим в армии. На него эмир обращает большое внимание. (Полк, вероятно, будет играть в случае военных действий большую роль) <���…> Кроме турецкого пехотного полка, все остальные части плохо обучены. Кадр унтер-офицеров, кроме турецкого полка, качества ниже среднего. Собранные сведения о качестве и способности офицеров, за исключением офицеров турецкого полка, с боевой точки зрения неблагоприятные для Бухарского правительства» [762] Иностранная военная интервенция и гражданская война в Средней Азии и Казахстане / Редкол. Т.Е. Елеуов, Х.Ш. Иноятов (отв. ред.) и др. Т. 1. Алма-Ата: АН КазССР, 1963 — С. 497–498.
. К сказанному необходимо добавить, что, по данным Б. И. Искандарова, к июню 1920 г. численность полка возросла до 2 600 человек [763] Искандаров Б.И. Бухара (1918–1920 гг.). Душанбе: «Дониш», 1970. — С. 108.
. Однако, как бы то ни было, в обороне Бухары от Красной армии на рубеже августа-сентября 1920 г. эта воинская часть не сыграла, практически, никакой роли и не оправдала возлагаемых на нее надежд.
Помимо Кавказа и Средней Азии, турки могли участвовать в «белой борьбе» и на других фронтах. Так, в октябре 1919 г. власти Барнаула информировали Министра внутренних дел Омского правительства о том, что «при переговорах с турецкими военнопленными Барнаульского лагеря выяснилась возможность вербовать добровольцев <���…> Татары намереваются переговорить по этому вопросу с местными турецкими военачальниками, работающими в Барнауле» [764] ГАРФ. Ф. 1701. Оп. 1. Д. 55. Л. 10–11.
. В свою очередь, один из офицеров Крымского конного полка, вспоминая о событиях в Крыму летом 1919 г. и, в частности, об опасной разведке Сивашской гати, выполненной группой «охотников» в ночь на 14 июня, сообщал, что среди последних был «Осман — бывший турецкий пленный, раненый в разведке и доставивший командиру полка донесение <���…> По представлению командира полка все участники этого поиска, в т. ч. и Осман, были награждены Георгиевскими крестами 4 степени» [765] Крымцы Ее Величества в Добровольческой армии, Вооруженных силах Юга России и в Русской Армии. 1918–1920 годы // Возрожденные полки русской армии в Белой борьбе на Юге России / Состав., науч. ред., предисл. и комментар. С.В. Волкова. М.: ЗАО Центрполиграф, 2002. — С. 242–243.
.
Заключение
Как следует из всего изложенного в настоящей работе, режим пребывания турок в России в 1914–1924 гг. совпадал в своих основных чертах с тем, который был предусмотрен для представителей всех Центральных держав. В то же время «османский элемент» привнес в отечественную систему плена и механизм ее функционирования некоторые особенности, нетипичные для режима австро-венгерских и германских подданных ни до, ни после 20 октября 1914 г. В частности, появление в структуре пленников турецкого контингента повлекло за собой расширение общего возрастного диапазона военнопленных и установление дифференцированного подхода к ранее единой норме их продовольственного обеспечения; оно привело к тому, что конфессиональная принадлежность гражданского пленного превратилась в основание для предоставления ему льгот и преимуществ, а национальность военнопленного, напротив, стала по отношению к его статусу юридически безразлична. Нельзя не отметить также, что только турецкий контингент управлялся в России практически без применения репрессий. И только он, в большинстве своем, был расквартирован не в глубоком тылу, а фактически на театре военных действий (в пределах Кавказского военного округа), в т. ч. в местностях, объявленных на военном положении, включая временно оккупированную территорию противника.
Эти и иные особенности явно указывают на то, что политика российского военно-политического руководства, проводимая по отношению к пленным туркам в 1914–1917 гг., во многом сохранила преемственную связь с той, которая существовала в периоды предыдущих русско-турецких вооруженных конфликтов конца XVII–XIX вв. Элементы такой преемственности прослеживаются в стремлении российских властей снизить уровень смертности турок (главным образом, путем улучшения их питания и размещения в регионах с относительно благоприятным для пленных климатом); в бескомпромиссном отношении власти к христианам, проходившим службу в рядах оттоманской армии; в использовании труда османов преимущественно на тяжелых валовых работах; в фактически ничем не ограниченной свободе вероисповедания турок и т. д. и т. п. Даже репатриация 1918–1924 гг., по большому счету, мало чем отличалась от репатриации 1739–1742 гг., да и от любой иной, в том смысле, что как и любая иная изобиловала недостатками организации, игнорированием установленных договорами сроков, взаимными упреками, полным несовпадением предоставляемых друг другу данных и непреходящими подозрениями в том, что вчерашний противник продолжает насильственно удерживать у себя тысячи соотечественников.
Как и в прежние времена, пленные турки редко всерьез стремились перейти в русское подданство и предпочитали держаться подальше от российских конфликтов любого характера и направленности. В свою очередь, российские чиновники всех уровней в неменьшей степени дистанцировались от турок, явно испытывая к ним неприятие и стойкое недоверие (не исключая христиан). Причем последнее было в полной мере воспринято и советским управленческим аппаратом, чем убедительно показало свой не только традиционный, но и внесоциальный характер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: