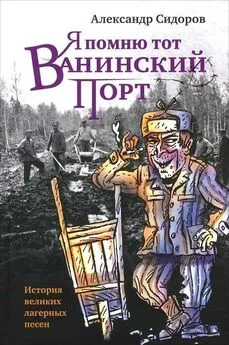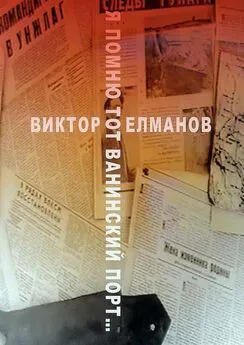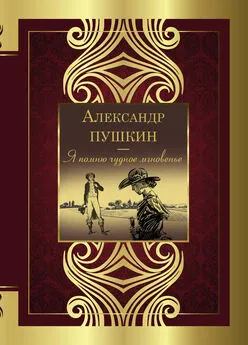Александр Сидоров - Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен
- Название:Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-192-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен краткое содержание
Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Простой пример: песня «Идут на Север этапы новые, кого ни спросишь, у всех Указ…». Первый же вопрос: о каком указе идёт речь? В тексте не поясняется. А ведь это связано и с датировкой песни, и с её первоисточниками, и с другими обстоятельствами. Представьте себе: в разных источниках существуют ссылки на совершенно разные указы и постановления! Как определить единственно верный документ, побудивший лагерников создать свой фольклорный шедевр? Необходимо каждую версию тщательно проанализировать — и оставить лишь одну. Рассмотреть детально все за и против и при этом не утомить читателя излишней статистикой, кипами документов и т. д. Сохранить увлекательность повествования. Вот задачка!
И она ещё — не самая сложная. Возьмём песню «Бывший урка, Родины солдат» — о блатном фронтовике. И как же здесь обойтись без рассказа о штрафбатах и штрафротах, о «блатных партизанах», об уголовных преступлениях советских солдат на своей и чужой территории? И, конечно же, о знаковом событии послевоенного ГУЛАГа — знаменитой резне «честных воров» и предателей «блатного братства», ставших на сторону лагерного начальства. То есть — о печально известной «сучьей войне»…
Центральное место в книге занимает песня «Я помню тот Ванинский порт» — гимн колымских зэка. Она разобрана фактически построчно.
Автор попытался написать не только исследование о советских лагерных песнях, но и представить новый взгляд на историю ГУЛАГа — взгляд, который отличается как от точки зрения Александра Солженицына, так и от точки зрения его идейного противника Варлама Шаламова. Вот именно поэтому книга далась мне тяжело и очерков в ней меньше, чем в предыдущих.
А что такое глобус?
Но не стоит пугаться. На первом месте в моих исследованиях по-прежнему стоит занимательность. В этом смысле довольно оригинально, но вместе с тем достаточно точно мой подход к теме и принцип подачи материала объясняет рецензия в еженедельнике «Книжное обозрение» на второй том очерков о блатных песнях:
«Креативный педагог приходит на урок географии в “трудный” класс — там, естественно, дым коромыслом и на географию все класть хотели с прибором. — Ну что, шпана, — не теряясь, бодро спрашивает педагог, — кто мне ответит, можно ли натянуть презерватив на глобус? — Гыыыы-гыгы!!!.. Эээ, а глобус — это что? — А вот об этом, дети, мы сейчас и поговорим…
О презервативах в новой книге исследователя уголовно-арестантской субкультуры Александра Сидорова нет ни слова, но занимается он тем же благородным делом, что и приколист-географ из анекдота».
И далее идёт расшифровка этого сравнения. Рассказывая о неожиданных открытиях, с которыми он столкнулся в книге, автор рецензии пишет: «Начиная весело копаться в любопытных деталях блатного быта начала прошлого века, неизбежно приходишь к Истории, в которой, как известно, всякое малое таит в себе большое. И в руках у тебя оказывается глобус Советской России — причудливый, конечно, с неизведанными областями и нарисованными чудами-юдами, но учиться по нему можно и нужно». И добавляет: книга «немного похожа на уголовное расследование, немного — на одну из тех чудо-машин, где всё начинается с того, что шарик падает в желоб и куда-то катится, а дальше может произойти что угодно, и ещё немного — на расширяющуюся Вселенную».
Знаете, мне очень по душе цитировать умных людей. Потому что порою сам ты не можешь сформулировать нужную мысль — даже если она касается твоего собственного произведения. А ежели есть человек, который способен это сделать предельно ёмко и точно, — зачем же себе голову напрасно ломать?
Поэтому не удержусь от цитирования другого критика, чья точка зрения мне очень близка, — Наума Нима, который опубликовал заметки о моих книгах в «Московском книжном журнале»:
«Для меня оказался чрезвычайно симпатичным исследовательский метод Александра Сидорова… автор совсем не предлагает нам экстраполяцию истории страны по её блатным и приблатнённым песням. Он затягивает нас в интересные приключения, в которых блатная песня играет для автора роль путеводной карты с неожиданными поворотами, переходами и находками.
Песенная строка или одно какое-то словцо — это повод для занимательного путешествия в мир слов, или в бытовую жизнь, или в историю Беломорканала, и при этом заранее трудно угадать, куда именно автор утянет внимательного читателя в следующем эпизоде своего исследования. А самое замечательное, что практически любой и даже очень подготовленный читатель найдёт в этих путешествиях что-нибудь интересное и до той поры ему неведомое…
Именно мимо этих песенок все мы когда-то прошмыгивали, втянув голову в плечи и мечтая стать невидимыми для собравшихся там, вокруг дренькающей гитары, пацанов. Это был иной мир, презиравший наши книжные занятия, и теперь очень правильно заглянуть в тот мир зазеркалья именно с высоты наших знаний, с багажом именно нашей эрудиции и культуры. Только так безопасно касаться блатного мира. Без этого он затягивает в воронку ложной самодостаточности, а в том, как это опасно, мы убедились в начале 90-х, когда блатные песенки утянули из нашего мира (а в большом количестве и из жизни) очень многие молодые души, не обременённые книжными знаниями и книжной культурой».
Книга, которую ты раскрыл, читатель, во многом написана при помощи метода, который столь симпатичен Науму Ниму и многим другим. Уходя от смелой метафоры с глобусом, я бы определил такой подход иначе — «суп из лагерного топора». Помните старую русскую сказку, когда солдат принялся варить для старухи суп вроде бы из одного только топора, но постепенно туда добавлялись картофель, мясо, соль, приправы и прочее? А в конце концов вышла знатная похлёбка — что чрезвычайно поразило жадную старуху.
Так и в нашем случае. Лагерный топор — не случайная метафора. В послевоенном ГУЛАГе существовала поговорка — «За стукачом (за сукой) топор ходит». То есть гад всё равно не избежит смерти. То есть топор — в определённой мере символ лагерной жизни и её законов. Рассказывая об арестантском быте, испытаниях и муках, о тюремных традициях и воровских понятиях, о лагерной любви, мы одновременно затрагиваем множество других чрезвычайно важных тем, прикасаемся к истории родной страны — тех её сторон, о которых многие даже не догадываются.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: