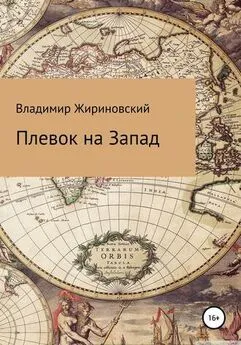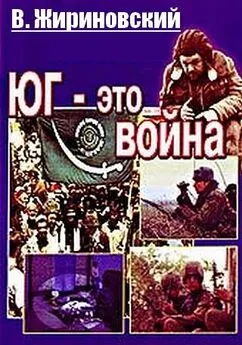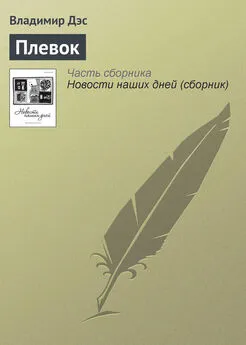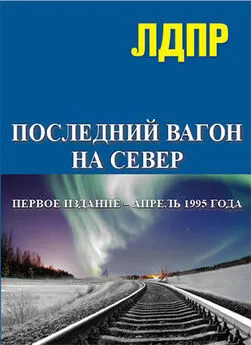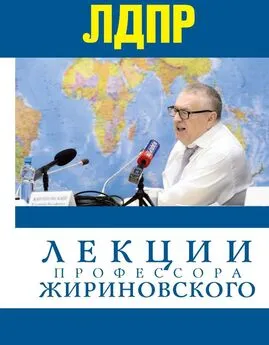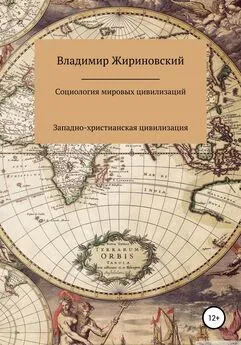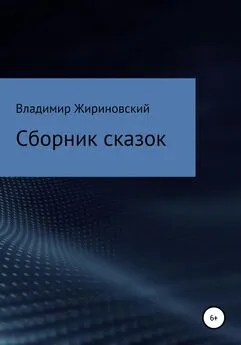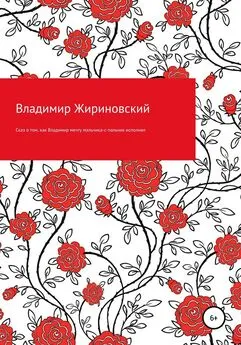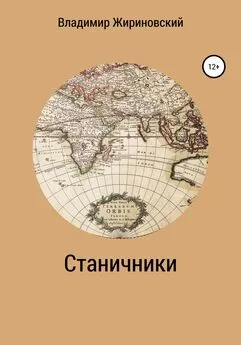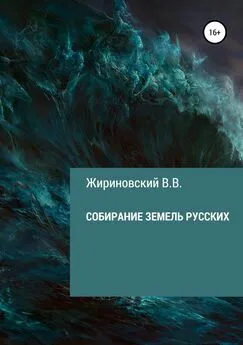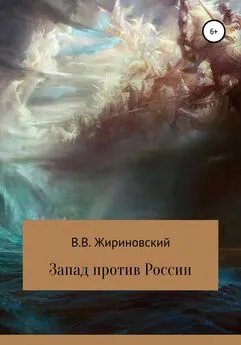Владимир Жириновский - Плевок на Запад
- Название:Плевок на Запад
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:SelfPub
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Жириновский - Плевок на Запад краткое содержание
Плевок на Запад - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Даже то, что родовитейший из родовитых (Рюрикович!) Шереметев женился на своей крепостной, не вызвало в обществе протеста. Только разговоры и сплетни.
Дворяне России вовсю женились на цыганках из хора, на крепостных крестьянках – и это не считалось чем-то ужасающим.
Теперь рассмотрим другую ситуацию. Англия. «Свободная» страна.
Крепостное право отменено еще в XV веке. Рабство тоже отменено. Парламент имеется. А дворянство не имеет никаких особых прав.
«Эсквайром» (мелкопоместным дворянином) подписываются многие принадлежащие к буржуазии или чиновничеству люди. Фактически это слово означало тогда что-то вроде «сударь».
Так вот, в романе Диккенса – тоже мезальянс: он – аристократ, она – простая лодочница.
Но сразу видно внутреннее напряжение Диккенса, видно, как он старается сгладить этот мезальянс, сблизить в глазах читателя Его и Ее. Сразу аристократ оказывается из разоренной семьи. Неравенство (которое, казалось бы, изначально было много меньше, чем в русском варианте) становится еще меньше.
Но этого мало. Диккенс вертится, как бес перед обедней, чувствуя, что для английского читателя этот номер не проходит. Он ставит своего героя в исключительное положение. Герой тонет, жестоко израненный соперником, и спасает его та же лодочница.
Ну тут уж, казалось, он обязан это сделать просто из чувства благодарности. Но для Диккенса и этого мало. Накрутка страстей крепчает, доводя содержание уже до полнейшего маразма.
Герой оказывается на краю гибели, и в предсмертном состоянии у него возникает блажь – жениться. И только на грани смерти происходит трогательное бракосочетание. Герой, конечно, потом от счастья нежданно выздоравливает.
Но и этого мало. В конце романа дается весьма и весьма патетическая картина с осуждением английским «светом» такого неравного брака. Осуждение, правда, получается не единогласным – и по сему поводу Диккенс не жалеет ни патетики, ни восторга.
Так где же социальная мобильность была выше? Естественно, в России, ибо Россия была империей, а Англия, хоть и величала себя таковой, была (и остается) ближе к республике, со своим всесильным парламентом, со своей чисто номинальной королевской властью и со своим неистребимым шовинизмом.
В этом смысле становится понятным, почему Россия избрала имперский путь.
Сейчас прозападные демократы стараются убрать из народной памяти то, что было общим местом для историков прошлого века. Россия сложилась как государство в борьбе со смертельной опасностью, идущей из Степи.
Наличие такой опасности не позволяло России проявлять шовинизм на европейский манер, пришедший из республиканского Рима и бывший типичным для всего древнего Средиземноморья: «Мы люди, вы – нелюди, скот».
Ордынцев приходилось заманивать к себе «лаской», выделять их князьям города для «кормления» (тот же Касимов, Кашира).
Собственно говоря, по большому счету опасность из Степи исчезла для России только после екатерининских войн – а русских кочевники перестали угонять в рабство только с признанием Хивинским ханством русского протектората. А это уже 1873 год.
До того же времени у России не было другого пути, кроме пути императорского Рима – или гибели в волне азиатского кровавого хаоса.
Это отлично понимали русские историки XVII века – такие как стольник Лызлов, который в своей «Скифской истории» (кстати, напечатанной спустя почти 100 лет и именно в момент последнего набега крымцев на Россию в 1768 году) всячески обыгрывал известную тацитовскую формулу: «Сначала враги, потом граждане».
Такая способность все усвоить и переработать не противоречит пресловутой русской «ксенофобии», о которой так любят побрехать «демократы». Россия с понятной подозрительностью относилась как к Востоку, откуда появлялись самые чудовищные феномены, вроде Орды, так и к Западу, смотревшему на все прочие народы с истинно колонизаторским пренебрежением и при случае их истреблявшему.
Россия была трагически одинока.
По своей культуре она не могла принадлежать ко всему хищно-азиатскому миру с его отношением к земле как к чему-то опустошаемому, и в то же время не принадлежала и к Западу, ибо не была ни Римом, ни колонией Рима. Она была и остается чуждой как Западу, так и Востоку, она сама по себе.
Культура на Русь шла с другого, христианского Востока (имевшего ряд особенностей, не всегда приемлемых для нашего менталитета) – из Византии.
Но вопросом жизни и смерти для России были именно отношения с кочевниками или с осевшими на землю их наследниками, одно название которых часто напоминает об ордынских временах (например, название «узбеки» происходит от одного из ханов Золотой Орды – хана Узбека).
И России, для того чтобы справляться с этими господами, нужно было все время быть «под ружьем», то есть в империи в самом прямом и достоверном смысле этого слова («император» – первоначально полководец, повелевающий, тот, кому римским Сенатом дан проконсульский империй – чрезвычайная военная власть).
Но очень скоро стали выявляться недостатки имперского устройства.
Ранее уже было сказано: империя интернациональна. Это не следует понимать в том смысле, что во всякой империи царит всеобщий хаос и некая космополитическая культура.
Нет, само основание имперского устройства носит на себе (и иначе быть не может) следы той этнокультуры, которая ее создавала и цементировала.
В империях присутствует уверенное доминирование какой-то одной культуры. Но это рано или поздно вступает в конфликт с интернационализмом империи.
Поскольку полный интернационализм возможен только среди «Иванов, родства не помнящих», то рано или поздно может сложиться ситуация, при которой доминирующее положение в империи займут представители совсем иной культуры, по типу противоположной первоначальной.
Пусть нас поймут правильно. Существуют разные типы национальных культур. И вопрос стоит гораздо более сложный и тяжелый, чем выбор «национализм или интернационализм».
Более того, разделение на нации, племена и прочее в данном случае сводит его к слишком мелкому уровню. Лучше говорить о кустах (если так можно выразиться) национальных культур, о целых регионах, в которых разные культуры близки друг другу, но далеки от культур другого региона.
Кстати, выше это уже до какой-то степени было показано: «истинно полисное воззрение» было воззрением, типичным именно для куста культур Средиземноморья.
Положение осложняется тем, что человек может принадлежать к той или иной культуре, сам того не подозревая. При этом он, может быть искренне желая развивать имперскую культуру, фактически использует ее формы как оболочку для выражения своих, может, и неосознанных устремлений, которые опять-таки могут быть разрушительны для этой культуры и для всего, что на ней базируется.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: