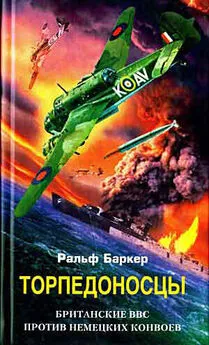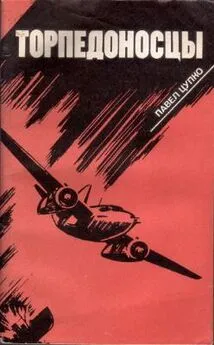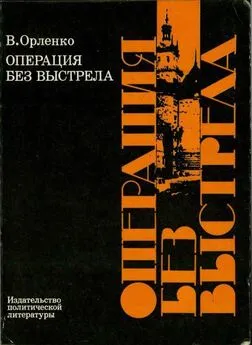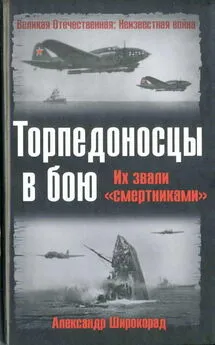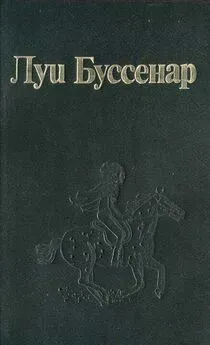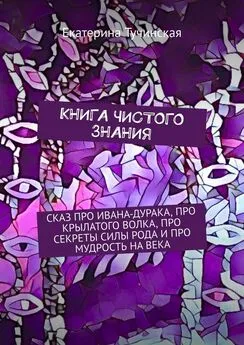Иван Орленко - Крылатые торпедоносцы
- Название:Крылатые торпедоносцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Орленко - Крылатые торпедоносцы краткое содержание
Выход из печати в 1981 году книги И.Ф. Орленко «Мы – „Таллинские“» вызвал значительный энтузиазм, прежде всего у ветеранов полка и активистов военно-патриотических клубов, и ознаменовал собой новый этап в изучении истории 51-го МТАП. Процесс накопления новых материалов и уточнения данных потребовал от автора продолжить работу. Результатом явилась повесть «Крылатые торпедоносцы», которую И.Ф. Орленко успел закончить, но не успел опубликовать. Повесть «Крылатые торпедоносцы» взята нами за основу, поскольку она наиболее полно отображает видение автором истории полка, учитывает замечания и предложения, поступившие после выхода первой книги. При анализе материалов повести следует учитывать сложности, с которыми сталкивался И.Ф. Орленко: затрудненность доступа к архивам, ограничения на объем, содержание и стиль, накладываемые подготовкой к книжной публикации. Многие направления исследований прервала неумолимо наступавшая старость.
Крылатые торпедоносцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наши самолеты не имели существенных повреждений – несколько пулевых пробоин в счет не шли. Интересно, что в самолет Кузьмина вообще попала всего одна пуля. Она ударилась о пистолет стрелка-радиста и застряла у него в кармане, не причинив вреда. Эту пулю, в память об атаке в туманном Рижском заливе, Кузьмин всегда носил при себе, как реликвию, пока месяц спустя не погиб вместе со своим экипажем в бою над Либавой…
В тот же вечер, когда мы возвращались из столовой, мне повстречался механик моего самолета Н.А. Стерликов.
– А вы под счастливой звездой родились, товарищ майор, – полушутя полусерьезно сказал он.
– Да? Не уверен. С чего это вы взяли?
– Осколок зенитного снаряда пробил пол в кабине прямо перед вашим сиденьем, а вас даже не задело…
– Ну, может быть, вы и правы, – засмеялся я, а самому невольно вспомнился один памятный эпизод из моей жизни.
Когда пришел приказ об откомандировании меня на фронт, мы с женой Ольгой Никитичной долго не могли решить: где ей жить с нашими маленькими дочурками Томой и Галочкой.
– В Совгавани не останусь, – категорически заявили она. – Вдруг начнется война с Японией, вы все улетите, а что будет с нами?
В какой-то степени и я разделял ее беспокойство. Многие семьи военнослужащих гораздо раньше выехали в Сибирь поближе к Уралу, в Среднюю Азию или Поволжье. Пришлось мне, уезжая, взять семью с собой.
Перед отправкой на Балтику я должен был пройти краткий курс переподготовки в четвертом военно-морском авиационном училище, где предстояло в совершенстве овладеть самолетом Ил-4 для полетов днем и ночью. Программа, естественно, была ускоренной и потому очень напряженной, мы буквально неделями не вылезали с аэродрома. И вот, когда учеба подошла к концу, меня неожиданно вызвали в штаб училища.
– Училище перебазируется на новое место, поближе к морю, – сказал мне командир нашей учебной эскадрильи капитан Острошапкин. – Наземный эшелон с имуществом и семьями уже в пути, а вам поручается перегнать группу самолетов. Экипажи подобраны, вы назначаетесь старшим. Вот приказ начальника училища. Прочтите и распишитесь.
– А когда же на фронт?
– Вот перегоните самолеты в Гудауту, и как только поступит приказ из Москвы, сразу же отправим, задерживать не будем.
Дальнейшее передаю со слов жены.
На одной из промежуточных станций поезд надолго остановился, и начальник эшелона собрал всех военнослужащих на построение. Отдав все необходимые указания и распоряжения, он сказал в заключение:
– Есть не очень-то приятное сообщение, товарищи. Ночью к нашему поезду прицепили платформу с гробами. В одном из них – останки погибшего при катастрофе нашего слушателя офицера-летчика Орленко. С нами в эшелоне едет его жена с двумя детьми и ее нужно как-то подготовить к такому печальному известию.
Сообщить вдове такую страшную новость он сам не решился и поручил это двум девушкам-военнослужащим, которые ехали с ней в одном вагоне. Горе ошеломило, но не сразило Ольгу Никитичну – ответственность, заботы о детях, а, главное, надежда на то, что сообщение не точное, что где-то произошла ошибка, что где-то что-то перепутали, придавала ей силы.
– Говорят, что мой муж погиб, а я не верю в это, – сказала она подошедшему к вагону начальнику поезда. – Не верю! Вот увидите, он будет встречать нас в Гудауте.
– Извините, мой долг известить вас, – ответил тот и ушел.
Нетрудно представить, какими мучительными, невыносимо тяжелыми были для жены оставшиеся несколько суток езды. На перроне в Гудауте, когда мы с другими летчиками вышли встречать свои семьи, она, подхватив дочерей, подбежала ко мне, бросилась на грудь да так и замерла.
– Что случилось? – обеспокоенно спросил капитан Острошапкин.
Признаюсь, и мне состояние жены было непонятно – не так уж давно мы расстались, бывали разлуки и дольше. Все объяснил начальник эшелона, рассказав историю о гробах.
– Черт знает что! На самом деле неприятная история, – сдерживая раздражение, воскликнул Острошапкин. И. обращаясь ко мне, весело добавил: – Значит, долго будешь жить, Иван Феофанович! Можешь спокойно ехать на фронт: ни пуля, ни снаряд тебя теперь не возьмут…
Тот осколок, пробивший кабину, и напомнил вещие слова капитана.
Рассвет опаздывал. На самом деле в природе, конечно, все шло своим чередом, и солнце поднялось в определенное ему ранней осенью время, только к нам в комнату оно никак не могло пробиться.
– Б-р-р, ну и погода! – зябко передернул плечами майор Добрицкий, выглянув в наше единственное оконце.
– Что там? – спросил я. Вставать почему-то не хотелось.
– На Украине сказали бы «мряка» – кругом серо и дождик сеет, не переставая, как через сито.
Едва мы вышли из домика, налетевший ветер запарусил плащ-накидками, брызнул в лицо пригоршнями мелкой мороси, фуражки пришлось придерживать руками, чтобы не унесло. То ли туман, то ли серые клочья облаков неслись над самыми крышами, путались и растекались в кронах деревьев.
– Погодка явно не летная! – прокричал мне Григорий Васильевич, потому что разговаривать обычным тоном было невозможно.
– Богомерзкая погода. И видимости-то никакой, – прокричал я в ответ.
Но война часто ломала все обычные представления и понятия. Суровое «надо», вызванное складывающейся на фронте обстановкой, заставляло отказываться от сложившихся со временем стереотипов, переступать через каноны, делать невозможное возможным.
Вот и в то ненастное утро 29 сентября из штаба ВВС флота поступил приказ: одним самолетом провести разведку в Рижском заливе и Ирбенском проливе, уточнить данные о движении вражеских кораблей, доставлявших воинские подкрепления и боеприпасы на острова Моонзундского архипелага и в Ригу.
– Кого пошлем? Может, Мещерина? – спросил капитан Иванов, мысленно перебирая фамилии командиров других эскадрилий и наиболее подготовленных летчиков из числа бывших перегонщиков.
– Нет, – подумав мгновение, ответил Ситяков. – Полечу сам. Со мной, как всегда, флагштурман Заварин, стрелком-радистом – старшина Волков.
Мы с Завариным и Ивановым пытались отговорить Федора Андреевича. В самом дел, разве у нас мало летчиков, способных выполнить боевую задачу даже в таких отвратительных метеоусловиях, разве мало «стариков», которым любое дело по плечу… Но майор Ситяков не любил отказываться от принятого решения.
Только внес одно изменение: стрелком-радистом взял начальника связи полка старшего лейтенанта П.М. Черкашина.
Чем была вызвана замена стрелка-радиста теперь остается только догадываться. Волков слыл отличным специалистом и не раз доказывал это в бою, когда приходилось отбиваться от фашистских истребителей. Пожалуй, сыграли роль и личные симпатии майора Ситякова к своему начальнику связи, которых он и не скрывал. Впрочем, и не было в полку человека, который бы не симпатизировал Черкашину, не уважал его за прошлые боевые заслуги. Воевал он почти с первых дней войны, имел немалый фронтовой опыт, несколько боевых наград, а это в военной среде ценится достаточно высоко.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: