Владислав Даркевич - Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв.
- Название:Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Индрик
- Год:2006
- Город:М.
- ISBN:5-85759-350-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Даркевич - Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв. краткое содержание
Для историков, искусствоведов, археологов и более широкого круга читателей, интересующихся Средневековьем.
Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На разных страницах «Романа об Александре» запечатлены последовательные моменты схватки петухов от начала до чествования победителя. Вот пернатые противники вышли на «ринг»: настороженно следя друг за другом и грозно наклонившись, они изготовились к нападению. Хозяева подстрекают своих подопечных. Вслед за тем драчуны яростно бросаются в атаку: подскакивают и сталкиваются грудь с грудью в воздухе (табл. 84, 2). Две группы «петушатников» напряженно следят за исходом баталии, которая подходит к концу. Петух со вздыбленными на шее перьями одерживает верх над врагом (табл. 84, 3). Перед боем болельщики заключали пари, делали ставки на фаворитов. Зритель с монетой (?) на стороне слабейшего петуха уже готов выплатить проигрыш. Наконец, и финал зрелища: в торжественном шествии на длинной жерди несут «тренера», который гордо демонстрирует публике триумфатора. Процессию замыкает знаменосец (табл. 84, 4). Потом счастливый владелец победителя выставит угощение судьям и знатокам.
В стране басков, Тироле, Армении бои баранов сохранялись до недавнего времени. {893} 893 Водовозова E. H . Жизнь европейских народов. С. 336; Лисициан С. Старинные пляски…
В рукописи «Святого Грааля» бойцовые бараны рванулись вперед, чтобы сшибиться широкими лбами (табл. 85, 1). {894} 894 Martin Н. Un caricaturiste au temps du roi Jean: Piérart dou Tielt // Gazette des beaux-arts. Paris, 1909. 51-e année, 2-e semestre. Fig. 16.
Упорству баранов находили применение в аттракционе, где с ними состязался человек. Во фламандской Псалтири юноша отражает широкой доской толчок мощных рогов косматого противника (табл. 85, 2). {895} 895 Randall L. М. C . Images in the Margins… Fig. 381, a.
Раздразненное животное, не обходя препятствие, пытается его прошибить и отбросить. Во французском Легендарии с рассвирепевшим бараном отважно вступила в схватку женщина с дубинкой и корзиной-щитом. Вставший на дыбы драчун таранит корзину лобовым ударом (табл. 85, 3). На рисунке Пьерара из Тилта разъяренный баран атакует обезьяну, которая нашла укрытие за рыцарским щитом (табл. 85, 4). {896} 896 Ibid. Fig. 25.
Не исключено, что баранов, бросавшихся на людей, специально дрессировали.
Зимой, когда замерзали водоемы, любили кататься на коньках. Фитцстефен, оставивший описание Лондона XII столетия, рассказывает: «Как только реки и озера, омывающие Север, замерзнут и покроются льдом, молодые люди толпами собираются на лед для разных игр… Некоторые привязывают к подошвам башмаков костяшки и, отталкиваясь длинными палками с заостренной железкой на конце, скользят с быстротою полета птицы». {897} 897 См.: Покровский E. А . Детские игры, преимущественно русские. М., 1895. С. 145.
Костяные коньки для катания по льду и укатанному снегу найдены при раскопках в Новгороде. С конца XIII в. деревянные коньки снабжали железными полозьями, слегка отогнутыми спереди. Полозья увеличивали скорость, служили опорой при разгоне и на поворотах. Палки и парус стали для конькобежцев ненужными. На зимних пейзажах голландских художников видим простых мастеровых, крестьянских девушек и даже священников, с увлечением катающихся на коньках.
На правой створке алтаря Босха «Сады земных наслаждений» грешники в аду, скользящие на коньках, воплощают безоглядную жизнерадостность, жажду легкомысленных удовольствий, которые влекут в бездны ледяной смерти (один нечестивец уже провалился под лед). Осужденных бдительно охраняет демон-конькобежец с утиным клювом, вооруженный луком и стрелами (табл. 113, 1). {898} 898 Fraenger W . Hieronymus Bosch. S. 54. Taf. 14.
В качестве салазок дети использовали челюстные кости лошадей и коров с деревянными сиденьями, укрепленными сверху. От льда отталкивались короткими палками с острыми металлическими наконечниками (табл. 86). {899} 899 Bastelaer R., van . Les estampes de Peter Bruegel l'Ancien. Pl. 205; Bruegel: Paintings, Drawings and Prints. Pl. 59; Randall L. М. C . Images in the Margins… Fig. 471; Ijzereef G. F. A mediaeval Jaw-Sledge from Dordrecht // Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzock. 1974. Jg. 24. Pl. XXV, 2. Фрагмент салазок из нижней челюсти лошади (XIV–XV вв.) найден при раскопках в Дордрехте в Нидерландах. См.: Ijzereef G. F . A mediaeval Jaw-Sledge… P. 181–184. Pl. XXV; XXVI.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
КАРНАВАЛ
Никому никаких, ни общественных, ни частных дел не делать в течение праздника…, только повара и пекари пусть работают. Пусть господствует для всех равенство, — и для рабов и свободных, и для бедняков и богатых. Сердиться, раздражаться, грозить никому не дозволяется… Речей не слагать и не произносить, кроме забавных каких-нибудь и веселых, содержащих насмешку и шутку.
Лукиан . Кроно-Солон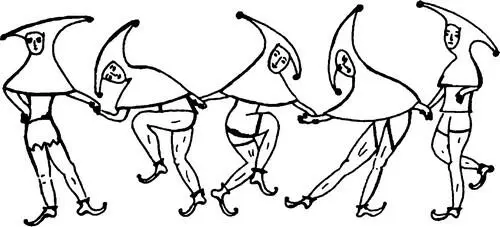
Карнавал в широком смысле этого слова — высшее проявление праздничной культуры Средневековья, синтез обрядово-зрелищных форм. {900} 900 О расширенном и узком значении понятия «карнавал» и объединении в карнавале различных народно-праздничных форм см.: Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 163; Он же. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 236–238.
Он закрывал один годичный цикл и открывал другой, знаменуя уничтожение старого и рождение нового. Карнавал объединил обряды и образы как языческие, так и христианские, входившие в фиктивный и сакральный мир. Это было последнее торжество перед Великим Постом, игровое движение вспять (своеобразная игра в грех с целью последующего его изгнания). Это своего рода отлив времени с маскарадами, масленичными угощениями и пирами в сказочной стране Кокань. Место обыденной жизни занимал перевернутый, иррациональный мир, чуждый социальной иерархии. Площадные празднества карнавального типа в их классических формах отличала всенародность, «открытость». Они объединяли людей всех званий, состояний и возрастов, разделенных в обыденной жизни иерархическими и корпоративными барьерами. Универсальный «смех на миру», направленный и на самих смеющихся, снимал «пиететную» дистанцию между высшими и низшими, знатью и плебеями, переворачивая отношения, определявшие структуру общества. Он сплачивал всех в единой жизнерадостной стихии, устраняя нетерпимость и враждебность, давая выход накопившейся психической энергии. Человек, слившийся с радостной возбужденной толпой, как бы растворялся в коллективном целом, ощущал себя в добром согласии не только с другими, но и с самим собой. «Праздничность… становилась формой второй жизни народа, вступавшего временно в утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия». {901} 901 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле… С. 12.
Карнавальные действа, хотя и не поощрялись высшими сановниками церкви, обладали удивительной жизнеспособностью как законная отдушина для «второй (праздничной) природы» человека, как известное «противоядие» мелочной регламентированности в средневековом обществе. Сильные мира сего, в том числе высокопоставленные духовные лица, хорошо понимали необходимость смеховой разрядки: «Бочки с вином лопнут, если время от времени не открывать отверстия и не пускать в них воздуха. Все мы, люди, — плохо сколоченные бочки, которые лопнут от вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха Божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось. Поэтому мы и разрешаем себе в определенные дни шутовство (глупость), чтобы потом с тем большим усердием вернуться к служению Господу» (Циркулярное послание парижского факультета богословия. Середина XV в.). {902} 902 См.: Там же. С. 84, 85.
Интервал:
Закладка:










