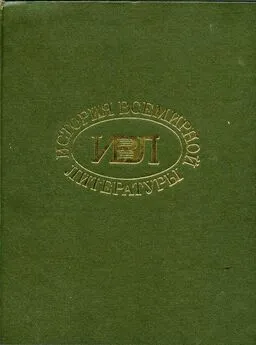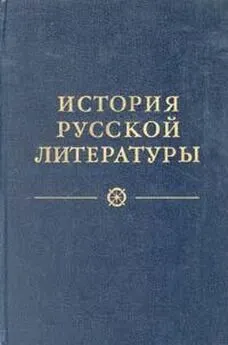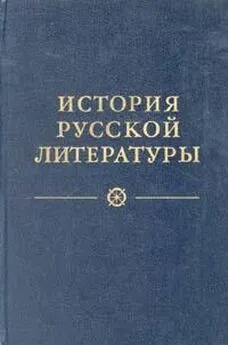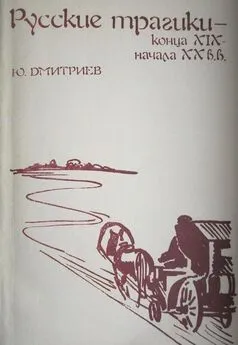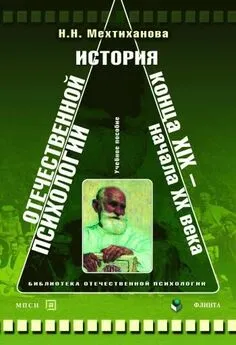Юрий Виппер - Том 8. Литература конца XIX — начала XX вв.
- Название:Том 8. Литература конца XIX — начала XX вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:-02-011423-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Виппер - Том 8. Литература конца XIX — начала XX вв. краткое содержание
Том VIII охватывает развитие мировой литературы от 1890-х и до 1917 г., т. е. в эпоху становления империализма и в канун пролетарской революции.
Том 8. Литература конца XIX — начала XX вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
10. А. Белый
Рядом с Блоком среди русских символистов высится фигура Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева, 1880–1934), выдающегося поэта и прозаика XX в. Горячую дружбу Белого и Блока, возникшую в начале столетия из общности их мистических и литературных исканий, не раз подрывали острые конфликты, братская близость сменялась взаимным отчуждением. Пути обоих, общие в своем истоке, в дальнейшем значительно разошлись.
Сын известного ученого — математика Н. В. Бугаева, Белый, естественник и гуманитарий, был человеком разносторонней одаренности и глубоких знаний. «Он говорил о <���Нильсе> Боре и Резерфорде, когда о них знали только узкие специалисты», — писала жена поэта. Наделенный острым чувством современности, глубокопереживавший общественно — политические сдвиги эпохи трех революций, Белый считал, что «Русь — на гребне волны мировых событий». Его влекли проблемы философии, социологии, этики, психологии; осваивая их творчески, он предвосхитил некоторые тенденции, возникавшие на стыке гуманитарных и точных наук. Поэт остался верен идеалистической презумпции перестройки человека и мира силами обновления «духа».
Космизм, который был присущ символистскому искусству (Бальмонт, Брюсов, Вяч. Иванов, Рерих, Чюрлёнис, Скрябин и др.), принял у Белого очертания поэтической фантастики, граничившей с близкой по времени реальностью. Стихи и прозу о звездоплавании на сказочном межпланетном корабле «Арго», вошедшие в сборник лирики «Золото в лазури». Белый писал в те же 1902–1903 гг., что и К. Циолковский работу «Исследования мировых пространств космическими приборами».
Свою смятенную, неуспокоенную судьбу Белый, не знавший «оседлости» и благополучия, сравнивал с участью брошенного в небо камня, обреченного на вечное скитальчество:
Как камень, пущенный из роковой пращи,
Браздя юдольный свет,
Покоя ищешь ты. Покоя не ищи.
Покоя нет.
Горький, признаваясь в 1922 г., что его «восхищает напряженность и оригинальность творчества Белого», увидел его «как планету, на которой свой — своеобразный — растительный, животный и духовный миры».
Белый — художник с юности искал непроторенных путей, был более других склонен к эксперименту. С задором новатора требовал он простора нетривиальному эстетическому ви́дению. Причисляя себя к «безумцам», которых Ницше считал пророками, Белый писал в начале века, предваряя бравады футуристов: «Да здравствует безумие: посшибаем очки трезвости с близоруких носов!» Поэта привлекала идея романтиков о единстве искусств и о музыке как главном из них, проникающем в сопредельные ей сферы слова, пластики, цвета. В трактате «Формы искусства» (1902) Белый варьировал мысли Шопенгауэра о музыке как «сути бытия».
Музыкальному началу стремился подчинить слово и Белый — писатель. Четыре его «Симфонии» (1900–1907, изд. 1902–1908) были попыткой строить повествование по принципу сонатно — симфонической формы, в которой спорят контрастные темы. Ви́дение мира в его «симфонических» противоречиях и единстве не было новым. Новалис воспринимал «мир как симфонию», Ф. Шлегель говорил о «сим — философии», а в «увертюре — симфонии» к комедии Тика «Перевернутый мир» то утверждалось, то иронически опровергалось право поэта «выражать мысли в музыкальных звуках и производить музыку словами и мыслями». Тип «музыкальной» организации повествования интересовал В. Одоевского; имитировать сонатные формы пытались русские декаденты 90‑х годов (А. Добролюбов и др.).
Близкие к подобным исканиям «симфонии» Белого дали своеобразный художественный результат, подготовивший новаторство прозы его «Петербурга». Структурный принцип «симфоний», где сталкиваются разрозненные эпизоды, объединенные лишь авторским замыслом, оказался сродни приему кинематографического монтажа. Как и некоторые другие формальные эксперименты Белого, принцип «симфонизма», особенно избыточный и навязчивый в «Четвертой симфонии» («Кубок метелей», изд. 1908), имел свои издержки. Но прием монтажа дал поэту бо́льшую емкость повествования, позволил вести действие одновременно в разных пространствах и временах, сочетать контрастные планы, лаконично воссоздавать пестроту жизненного потока. Иные эпизоды «симфоний» воспринимаются как кадры киносценария:
3. В «Эрмитаже» давали обед в честь Макса Нордау […];
сегодня прогремел Макс Нордау, бичуя вырождение […].
4. Он братался с московскими учеными.
5. Мимо «Эрмитажа» рабочий вез пустую бочку;
она грохотала, подпрыгивая на мостовой.
6. Это Москва не нуждалась в Нордау.
(«Вторая симфония», ч. 2)
Лейтмотив в «симфониях» Белого — прием тотальный, проникающий во все сферы изображения и усложненный в своей знаковой функции, ритмических и фонических свойствах. В дальнейшем у Белого — прозаика роль лейтмотива будет особенно велика.
Содержание и структуру «симфоний» определял принцип символистского двоемирия. Но эстетическая значимость внешнего и глубинного планов нередко оказывалась неравноценной. Так заветная для Белого — мистика тема духовного подвига, победы светоносного героя над силами тьмы в посвященной Э. Григу «Первой (героической) симфонии» (1900) облекалась в метафоры традиционной сказочности и модных тогда полотен А. Бёклина с их кентаврами и фавнами. «Четвертая симфония», которую автор считал лучшим выражением принципов жанра, оказалась перегруженной субъективированными образами «метельной» стихии, символизировавшей то вьюгу земной страсти, то «белый» экстаз мистической любви, то «зычный» зов к воссоединению людей, «ко вселенской обедне». Как побочная возникала тема «метели» литературной; с иронией изображал Белый круговерть анархических теорий в символистской среде (с которыми он воевал в своих статьях). Но и эти эпизоды тонули в разливе мистических фантазий поэта, подчас трудно дешифруемых.
Более насыщенной впечатлениями реальности оказалась фактура «эмпирического» образного слоя во «Второй (драматической)» 1901 г. и третьей («Возврат», 1902), «симфониях». Здесь уже сказались присущие Белому зоркая наблюдательность, вкус к социальной и бытовой характерности, увлеченность многоголосием реального. Пародийные контроверзы планов Времени и Вечности, ирония и автопародия во «Второй симфонии», отличавшейся особенной причудливостью и остротой звучаний, напоминали о Вл. Соловьеве — сатирике, в чьих шуточных пьесах и стихотворениях проступала «поэзия нонсенса, балаганность, гиньоль» (З. Минц).
Мишенью своей сатиры во «Второй симфонии» Белый считал «некоторые крайности мистицизма». Действительно, пародийное изображение богоискательствующей интеллигенции заняло здесь большое место. Но это не только имевшие «групповую» подоплеку сатирические зарисовки Религиозно — философских собраний и их лидеров — Мережковского, Розанова. В стихию романтической иронии Белого вовлечено наряду с неприемлемым, низким также и высокое, заветное. Черты автопародии сквозят в насмешливой обрисовке «аскета» — соловьевца Сергея Мусатова. Едучи по российским ухабам в родовые Грязищи, он мечтает о великой роли России, чья «восточная кровь» оживит «скелет» погибшей Европы. Перед «подслеповатыми» очами Мусатова неприятно двоится лик Вечно — Женственного: вместо Жены, облеченной в Солнце, герою мерещится лицо светской кокетки в облаке рыжеватых волос: «она обмахивалась веером, отвечая глупостью на глупость». В сатирическом зеркале Белого претендовавшее на «жизнестроительную» роль мистическое движение (с которым был связан и сам поэт) выглядит как безвредное поветрие: «Сеть мистиков покрыла Москву. В каждом квартале сидело по мистику, квартальному это было известно». Для иронии Белого нет ничего святого. Вл. Соловьев трубит в свой пророческий рог, шествуя по московским крышам. Он предрекает спящей Москве близкий восход «Солнца любви», а няньки крестят детей, напуганных странным звуком. В гротескно — фантастической сцене похорон «великой блудницы» Европы за гробом идут «самые страшные» ее могильщики — Ибсен, Ницше, Л. Толстой, Метерлинк, Рёскин. Но и о них повествуется саркастически: «толстокожий Емеля Однодум» топором «строгал щепку, приговаривая: „По — мужицки, по — дурацки, тяп да ляп и вышел карапь“». А рядом шел «сэр Джон Рёскин, перепутавший понятия добра, истины и красоты».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: