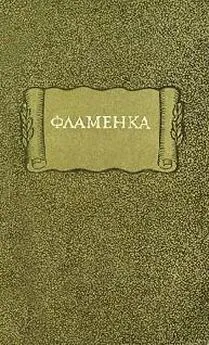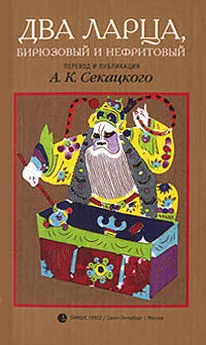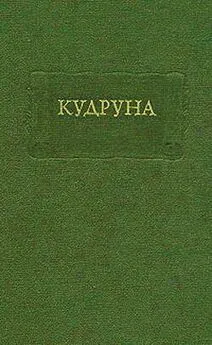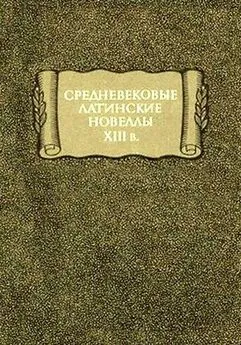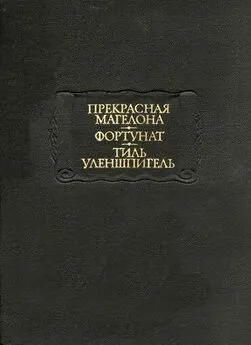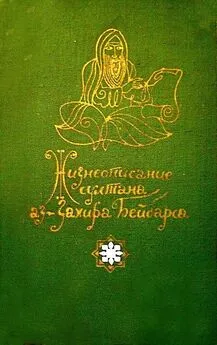Георгий Бердников - Том 2. Средневековая литература III–XIII вв.
- Название:Том 2. Средневековая литература III–XIII вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Бердников - Том 2. Средневековая литература III–XIII вв. краткое содержание
Том 2. Средневековая литература III–XIII вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Куртуазная лирика раскрывала переживания лишь представителей феодального слоя общества, хотя нередко черпала свои темы, образный строй, ритмику из фольклора. Лишь рыцарь и его возлюбленная оказывались в центре такой лирики. Их чувства передавались изысканно и тонко, но это были часто не подлинные чувства, а виртуозные вариации на заданную тему. К этому надо добавить, что в эпоху Средних веков, в частности, в области любовной лирики получило широкое распространение меценатство: знатные вельможи заказывали состоящим у них на службе поэтам звучные стихи, прославляющие женскую красоту, природу, рыцарские забавы. Меценатство в равной мере характерно и для индийской литературы, и для арабской, и для западноевропейской.
Тонкий духовный мир человека феодальной среды стал предметом и философской лирики, а также такого специфического жанра японской литературы, как дневники — никки — и записки — соси (Ки-но Цураюки, Идзуми Сикибу, Сэй Сёнагон и др.); впрочем, сходные явления были и на Западе.
Куртуазная лирика нередко соприкасалась с религиозной (например, у Григора Нарекаци, Вольфрама фон Эшенбаха), и с городской (Рютбеф), и — что особенно показательно — с народной (скажем, в знаменитой песне Вальтера фон дер Фогельвейде «Под липой свежей…»).
Более широкая картина действительности, но в большой мере опять-таки с аристократических позиций, давалась в повествовательных жанрах придворной словесности — в памятниках позднего героического эпоса (типа французских жест, испанской «Песни о моем Сиде», отчасти — исландских саг и японских гунки), который не без основания рассматривается как эпос «книжный», и в рыцарском романе. В памятниках эпоса переосмыслялись исторические события прошлого; основной упор делался на рассказы о героическом отпоре иноземным завоевателям, на повествования о феодальных усобицах, идеализировался образ бесстрашного, но порой своевольного феодала. В придворном романе, который сложился не во всех литературах Средневековья (например, такого романа не знала китайская литература), на первом плане были тонкие любовные переживания героев, которые иногда (как в западноевропейском романе или грузинском и персидском романическом эпосе) развертывались на фоне загадочных и чудесных ратных свершений протагонистов, иногда бывали связаны с превратностями судьбы (в романе византийском), с серией всевозможных похождений (в индийском романе) или оказывались переплетены с подробно изображенной придворной повседневностью (в японском «Гэндзи моногатари»). Можно говорить не просто об идеализации — в средневековом романе — феодального миропорядка, а о создании своеобразной утопии, чем была и идея рыцарского братства при дворе грузинских царей, и прельстительная ложь справедливого королевства Грааля. Мечте о прекрасном социуме, основанном на идеалах благородства и самоотречения, должны были соответствовать и герои. Поэтому куртуазный роман почти не знал сатиры, которая не была бы обращена за пределы изображаемого в произведении узкого сословного кружка. Жизнь нефеодалов показывалась в таком романе бегло, незаинтересованно и имела подчиненный характер. Она служила материалом для создания откровенно гротескных образов и положений.
В недрах средневекового общества существовала и демократическая культура народа. Она существенным образом повлияла на формирование народно-эпических памятников, таких, как скандинавская «Эдда», англосаксонский «Беовульф», валлийские «Мабиногион», византийский «Дигенис Акрит», испанские романсы, сербские и болгарские песни, русские былины и т. п. В ранних формах эпоса, носивших общенародный характер, отразились память о первобытнородовом прошлом, о героях-первопредках, старые мифы и предания (в частности, о богатырском детстве, сватовстве и брачных поездках героев). С ранними формами эпоса мы сталкиваемся во всех регионах средневековой литературы, за исключением восточноазиатского, где эпические формы сложились поздно, когда народное сознание было в достаточной степени историзовано.
В эпоху Средних веков народная низовая литература не сформировалась в автономное направление, но она присутствует в ряде сатирических жанров, возникших вне феодального сословия. Проявлением бунтарских настроений народа стало такое специфическое явление Средневековья, как «смеховая культура». Она связана с определенными календарными праздниками, когда на короткое время снимались сословные ограничения и народ позволял себе (вернее, ему позволяли) остроумно высмеивать феодальный миропорядок, религиозные предписания, сами жанры высокой словесности (прежде всего клерикальной). Возникли даже отдельные жанры и формы, снижающие, травестирующие аналогичные жанры высокой литературы (например, лирика вагантов). Элементы смеховой культуры зафиксированы во время карнавала в Западной Европе, масленицы у славян, отчасти — праздника фонарей в Китае, ноуруза в Иране, холи в Индии и т. д.
С этими травестирующими традициями народной культуры связаны такие значительные памятники западноевропейской средневековой литературы, как французский «Роман о Ренаре», византийское «Превосходное повествование про Осла, Волка и Лиса», а также, по-видимому, и их некоторые восточные аналоги.
Народно-демократические настроения во многом вдохновляли и городскую сатиру. Городская литература была очень важным компонентом средневекового литературного процесса, хотя как самостоятельное направление она сложилась не во всех регионах; на Востоке она не была так автономна, как на Западе, а на Руси из-за особенностей феодального устройства (здесь князья «сидели» по городам) вообще не выделилась из общенационального литературного потока.
Городская литература не была единой. Ей присущи кричащие противоречия — плебейское бунтарство и крайняя идейная ограниченность и косность (особенно в среде патрицианской верхушки средневекового города). Но с городской литературой в процессе ее развития были связаны многие передовые тенденции, очень важные для этапа Позднего Средневековья и становления (причем, по-видимому, не только на Западе) черт, предвосхищающих культуру Возрождения.
Городская литература знала и свои функциональные жанры и виды — домострой, лечебники, письмовники и т. п. Они ушли вместе со своей эпохой и со своими создателями. Но с городской словесностью связаны также жанры, которые затем разорвали рамки этого направления и получили большое распространение. По преимуществу это сатирические жанры. Среди них особенно важен жанр сатирической бытописательной новеллы, который родился именно в городской среде. В разных литературах он назывался по-разному. В арабской — макамой, во французской — фаблио, в немецкой — шванком, в китайской — хуабэнь, в корейской — пхэсоль. По своей структуре, стилистике, повествовательным моделям они не совпадают. Но их роднит морализм, демократизм героев, интерес к частным судьбам и обыденным событиям. В движении мировой литературы к реализму городской литературе во многом принадлежит заслуга углубления и расширения бытовой достоверности и жизненного правдоподобия. С культурой города связано и становление театра.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: