Евгений Добренко - Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2
- Название:Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1334-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Добренко - Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2 краткое содержание
Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сарказм как травматическая реакция на несовпадение героического идеала с актуальной ситуацией всегда предполагает противоположный, героико-патетический полюс. Таким полюсом является «мой народ», находящийся в позе эпического спокойствия. Именно таким представал он у Сталина, иронизировавшего вместе с «корреспондентом „Правды“» над охватившими Запад паникой и «шумихой» по случаю получения Советским Союзом атомной бомбы. Сталинский «советский народ» тоже спокойно взирает на суету. Но там, где Сталин намекает, Леонов живописует:
Он знает обо всех враждебных авиабазах, с которых взяты на прицел наши города. Он слышит открытые, иступленные призывы желтых заокеанских газетчиков крошить, громить, жечь наших женщин, стариков и детей. Он знает еще многое, улыбается и молчит, как молчат до поры такие же великаны рабочего класса ближнего и дальнего Запада, которых Атлантическим Пактом хотят воодушевить на поход против Советской родины всех трудящихся [625].
Этот великан потому описан с такой симпатией, что таким хочет видеть себя сам Леонов (а с ним – и его массовая советская аудитория). Ему, как и всему советскому народу, мешает американский демон. Потому столь убедительны злобные тирады Леонова для массового советского потребителя, имевшего с ним схожий опыт, схожий ментальный и культурный профиль. Однако все эти инвективы слишком национально ограничены и травматичны, а потому совершенно неконвертируемы. Вот почему оборотной стороной националистической пропаганды была «западническая», переводившая эти травмы на понятный Западу язык, а потому менее пригодная для внутреннего потребления. Ее главным агентом был, несомненно, Илья Эренбург.
Самый яркий публицист периода войны, Эренбург сразу после войны перешел в публицистику «борьбы за мир», превратившись в одного из главных советских пропагандистов эпохи холодной войны. Его публицистика демонстрирует прямую связь дискурсов войны и мира в советской культуре. Новый враг, интенсивно формировавшийся в послевоенной культуре, типологически не изменился со времен войны, так и оставшись фашистом: «Наши противники говорят, что мы называем фашистами всех, кого не любим. Это неверно, верно то, что все фашисты не любят нас. Они не только не любят нас, они призывают к войне против нас. Если бы они поступали иначе, они не были бы фашистами ‹…› До Фултона и до Вашингтона были балкон на пьяцца Венеция и стадион в Берлине» [626]. Переодевание вчерашних союзников в нацистские одежды требовало немалой работы по «преобразованию действительности», но поскольку на создание нового образа врага не было времени, началась утилизация огромных идеологических и пропагандистских ресурсов, вложенных в создание образа врага во время войны (в чем Эренбург также преуспел едва ли не больше других).
Если риторика Леонова адресована советской аудитории, которой понятнее язык имперской спеси, бравады и высокомерного сарказма, то Эренбург апеллировал к ортодоксально-классовой риторике, позволявшей выйти за пределы узкого национализма и позиционировать советский проект как интернациональный. Это и не удивительно: Эренбург оставался едва ли не единственным сохранившимся «сталинским вестернизатором» 1930‐х годов [627], который не просто «боролся за мир», но был главным советским эмиссаром в мировом антивоенном движении. Его задача состояла в привлечении на советскую сторону западных левых, поэтому его риторика должна была быть им понятной. «Мы не одни, – писал Эренбург, – с нами все народы мира. Против нас те американцы, которые против американского народа. Против нас те англичане, которые против английского народа. Против нас те французы, которые против французского народа…» [628]Даже в описании того, что такое мир для «советского народа», Эренбург апеллировал не столько к величию государства, сколько к повседневности, рисуя едва ли не идиллию спокойствия и «созидательного труда»:
Спокойствие овладевает человеком, когда после разлуки он снова видит Москву, шумливую и пеструю, школьниц в белых платьях после выпускного вечера и леса домов, рабочего с букетом ромашек и загорелых подростков у «Динамо», сложный, горячий, запутанный мир. Этого спокойствия не могут нарушить ни разведывательный самолет над нашим западным городом, ни бомбардировщики, пикирующие возле наших восточных границ. Это спокойствие связано с ощущением внутренней силы. Пока американские кликуши кричат о водородной бомбе, наши агрономы, питомцы «Тимирязевки», разъехавшись по стране, выращивают нивы, бахчи, сады и рощи. Пусть очередной умалишенный грозит войной на разных пресс-конференциях. Мы заняты серьезным делом: будущим. Наши газеты отводят полосы для научных дискуссий; они думают не только о завтрашнем дне, но и о том мире, в котором будут жить наши дети, наши внуки. Первый человек нашего государства нашел время, чтобы внести ценный вклад в науку о языке. Разве это не прекрасное доказательство нашего спокойствия? [629]
Эренбург занимается таким же менеджментом эмоций, как и Леонов, но он апеллирует к эмоциям несколько более развитым, окультуренным. Именно поэтому его картины менее эмоциональны и более живописны. В них почти нет сарказма и истерики, которыми пронизаны выступления Леонова. Это почти натюрморт мира – школьницы в белых платьицах, рабочий с букетом ромашек, вождь, погрузившийся в проблемы лингвистики… Картины этого эпического спокойствия находятся в резком контрасте с разведывательными самолетами, бомбардировщиками, провокациями и угрозами из‐за рубежа. Это – позы мира и войны. Отсюда – их живописность. Отсюда – «спокойствие», которому надо искать доказательства. Картина эта обращена вовне – именно зритель должен ответить на риторический вопрос: не правда ли, мы спокойны?
Демонстрация «спокойствия и выдержки» является демонстрацией «нашей силы». Сила эта не столько физическая (Эренбург предпочитает не вспоминать, что «бомбы будут, бомбы есть»), сколько духовная:
Советский народ отстаивает мир не потому, что он слаб. Он защищает мир потому, что он духовно силен, потому что он верит в свое будущее, в свой творческий труд, в счастье своих детей. Страха у нас нет: нашу силу проверяли не на парадах, а среди камней Сталинграда. Если мы выстояли в страшном поединке против фашистской армии, то потому, что у нас была броня, которая действительно непроницаема: броня нашего сознания, нашей совести, нашей воли к жизни [630].
Этой своей духовностью советский народ противостоит бездуховному Западу. Причем Запад дифференцируется: Европа объявляется едва ли не союзником СССР в его противостоянии с Америкой, а Советский Союз объявляется прямым преемником европейской цивилизации, разрушающейся под напором американского варварства:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
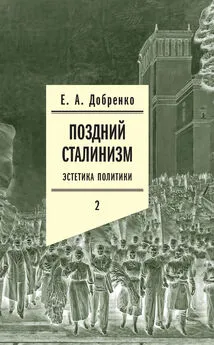
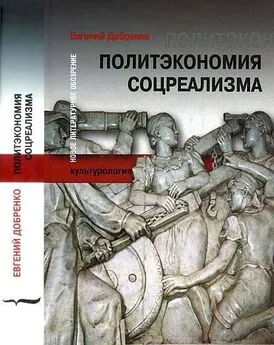

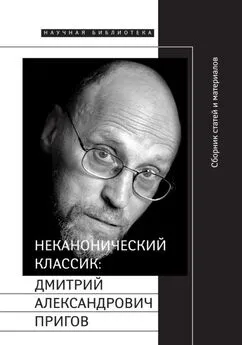


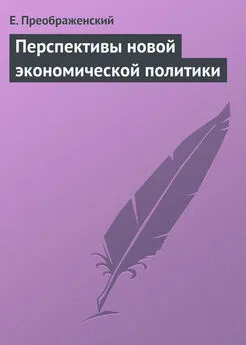
![Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145046/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya.webp)


