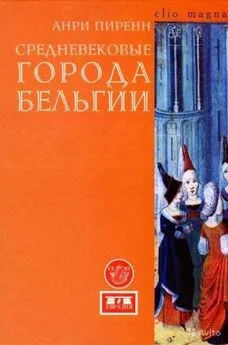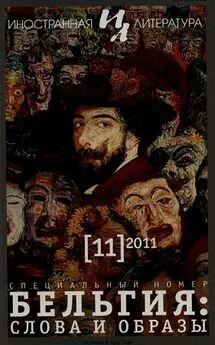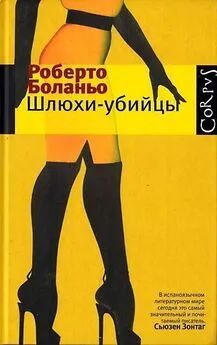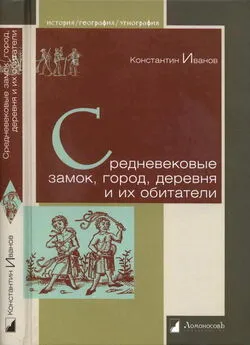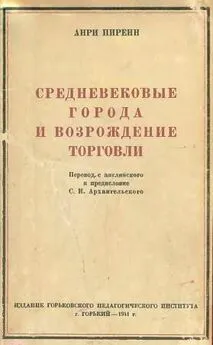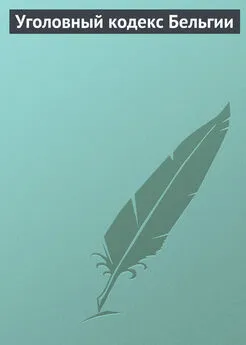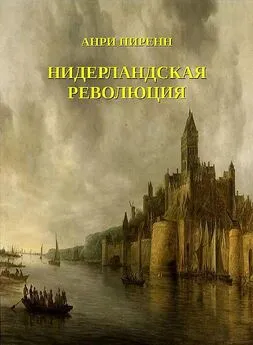Анри Пиренн - Средневековые города Бельгии
- Название:Средневековые города Бельгии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2001
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-8071-0093-
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Пиренн - Средневековые города Бельгии краткое содержание
Средневековые города Бельгии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Впрочем, последняя явилась лишь завершением длинного ряда народных волнений, которые, начиная с первой половины XII века, становились все более грозными и сильными.
Иностранная оккупация, неудача Шатильона, союз французского короля с патрицианскими « leliaerts » против ремесленников, дали лишь повод для торжества партии, которая раньше или позже призвана была при всех обстоятельствах сыграть первостепенную роль в истории городов. Это была партия ткачей. Именно она уже с давних пор была вдохновительницей и руководительницей в больших городах оппозиции патрициату. Из ее рядом вышел в 1302 г. вождь Петер Конинк, вокруг которого сгруппировались все недовольные. Наконец, после Атисского мира, она не только дала лучших бойцов, сражавшихся с французскими войсками на полях при Куртрэ и Монс-ан-Павеле, но и захватила власть в городах во время волнений, вызванных войной, и пыталась преобразовать городское управление в соответствии со своими планами и интересами. Ткачи, получив поддержку других ремесленников суконной промышленности — валяльщиков, красильщиков, стригалей, и т. д., — стремления которых совпадали в это время с их собственными, и увлекши за собой многочисленную группу мелких цехов, радовавшихся свержению эгоистического патрициата, который до этого держал их в стороне от участия в политической жизни, — ткачи воспользовались своей популярностью, чтобы осуществить программу реформ, руководившуюся, по-видимому, потребностями и стремлениями рабочих крупной промышленности. Действительно, эта программа шла значительно дальше обычных требований ремесленников. Она не ограничивалась тем, что предоставляла им место в городском управлении, вручала им контроль над городскими должностями, давала им представительство в городском совете и уделяла каждому из них его долю политического влияния; она стремилась, сверх того, внести радикальные преобразования в самую организацию труда и изменить, в значительной степени, экономическую жизнь городов. Этим она отчетливо выдает своих творцов, выступая перед нами, как дело рук совершенно особой социальной группы [922].
В то время как, например в Льеже, результатом демократической революции явился сперва раздел власти между патрициями и ремесленниками, а затем — отнятие ее у первых и передача вторым, причем ни цеховые порядки, ни экономический строй, на котором они покоились, не подверглись никаким изменениям, во Фландрии мы видим совершенно иную картину. Дело в том, что — как мы уже указывали в первой части предлагаемого труда — цехи, взявшие здесь руководство движением, не были такими же цехами, как все остальные. Хотя промышленные объединения ткачей и валяльщиков имели, на первый взгляд, тот же вид, что и объединения, например булочников, кузнецов или ювелиров; хотя в них существовала та же иерархия учеников, подмастерьев и мастеров; хотя их члены тоже были защищены от конкуренции посторонних рабочих; хотя они точно так же указывали каждому его права и его обязанности; хотя они проникнуты были тем же корпоративным духом и теми же чувствами солидарности — тем не менее нетрудно заметить, что они радикально отличались от них во многих отношениях. Действительно, в отличие от других ремесленников, мелких независимых предпринимателей, работавших на местный рынок и продававших без помощи посредников своим городским или пригородным клиентам товары, изготовленные из принадлежавшего им сырья, рабочие фландрской суконной промышленности не были в состоянии сами сбывать изготовлявшиеся ими ткани неизвестным им и далеким покупателям. Обрабатываемая ими шерсть доставлялась им купцами, и к этим же купцам она возвращалась в виде тканей, после многочисленных операций, каждая из которых была специальностью особого цеха. Поэтому ткачи, валяльщики, красильщики, стригали, очутившись в положении наемных рабочих, и устраненные с рынка, на который они работали, оказались подчиненными классу работодателей, который в других цехах сливался с ремесленниками.
Признаки, которыми обыкновенно характеризуют средневековую промышленность, неприменимы к ним; как бы предвосхищая будущее, они являют нам уже в XIII веке то зрелище, которое домашняя промышленность будет представлять во всей Европе после Возрождения. Если правильно оценить их экономическую природу, то их никак нельзя, несмотря на их: корпорации, отнести к категории цеховых ремесленников. Действительно, у последних орудия производства — мастерская, сырье — составляют собственность рабочего, продукт принадлежит ему и он прямо сбывает его потребителю [923]. Во фландрской же суконной промышленности капитал; был отделен от труда. Мелкие мастерские, расположенные вдоль улиц плебейских кварталов, работали лишь на оптовиков, от которых они, получали и для которых они выполняли заказы. Независимо от того, принадлежал ли ремесленник к группе мастеров, имел ли он или брал внаймы несколько ткацких станков ( getouwen ), или несколько валяльных чанов ( kommen ), либо же он относился к группе простых подмастерьев ( сnаереn ), живших только трудом своих рук, он одинаково лишен был экономической независимости [924].
Неизбежным следствием этой зависимости рабочего от предпринимателя явилось, с давних пор, подчинение цехов, занимавшихся обработкой шерсти, купеческим гильдиям. Введено было законодательство, строго подчинявшее цехи гильдиям, передававшее купцам ( coomannen ) право назначения надсмотрщиков ( rewards, vinders ) суконной промышленности, предоставившее им надзор и регламентацию промышленности, наказывавшее изгнанием простые нарушения техники производства и угрожавшее даже смертной казнью за стачку или недозволенное собрание. В результате этого ремесленники, работавшие в суконной промышленности, создавшие богатство городов и составлявшие значительнейшую часть их населения, оказались самыми бедными и презираемыми жителями их. Все, даже, их поселения в жалких предместьях, расположенных у ворот городов, свидетельствовало о том, что это низший класс, отделенный глубокой пропастью от остальной части городского населения.
Попытка переворота, во время «Брюггской заутрени» дала им столь долгожданный и постоянно отыскивавшийся ими повод навсегда освободиться от своего гражданского бесправия ( diminutio capitis ). Но для этого недостаточно было лишить патрициев их политических привилегий, нужно было еще уничтожить экономическую зависимость рабочих крупной промышленности, позволив каждому из них заниматься торговлей шерстью и сукном; чтобы провести эти реформы, ткачи повсюду завладели городским управлением и поручили своим деканам и присяжным, имена которых появляются тогда впервые в истории, введение своего рода осадного положения или террористического режима, благодаря которому ремесленники суконной промышленности были в течение двух лет хозяевами и господами городов [925]. Новые революционные власти провели в жизнь различные пункты их программы, не решаясь ссориться с могущественной партией, руководившей народными массами, помощь которых была им необходима для борьбы с Филиппом Красивым. Первого августа 1302 г. Иоанн Намюрский, по своем вступлении в Брюгге после победы при Куртрэ, торжественно приложил свою печать к хартии, предоставлявшей всем жителям города и всем тем, кто поселился бы в нем в будущем, свободу заниматься всякого рода торговлей и ремеслами [926]. Тем самым рабочие суконной промышленности добились главной цели своих требований. Свобода торговли означала конец промышленного режима, поддерживавшегося гильдиями. Она устанавливала равенство между рабочими, занимавшимися обработкой шерсти и другими ремесленниками, она позволяла им добывать себе сырье, самим продавать продукт своего труда, одним словом, она давала им экономическую независимость и социальное уважение, которого они были лишены, пока оставались наемными рабочими. Ткачи, валяльщики, стригали, красильщики стали, в свою очередь, мелкими предпринимателями. Их корпорации, находившиеся до тех пор под опекой, получили автономию и self government (самоуправление), приобрели право юрисдикции над своими членами и, неся отныне обязанность надзора за производством, поспешили выработать новую регламентацию. Согласно этим правилам, образцы которых дошли до нас, к сожалению, лишь в ничтожном количестве, изгнание и смертная казнь заменены были штрафами; в них запрещено было употреблять рабочих для «рабских» работ ( schalkelijk werk ) [927].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: