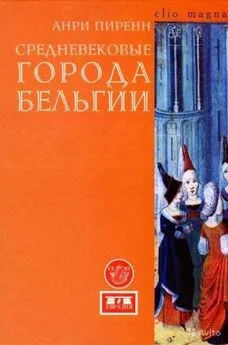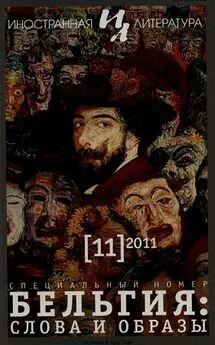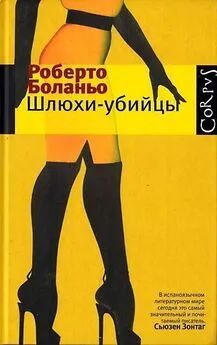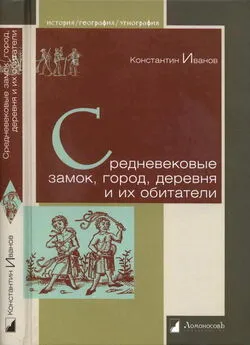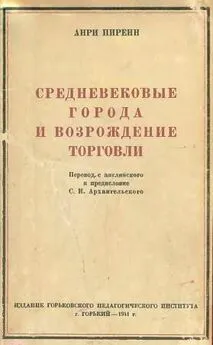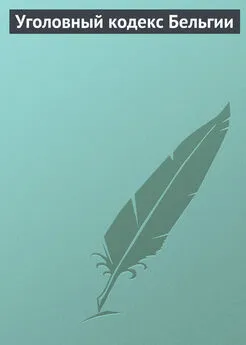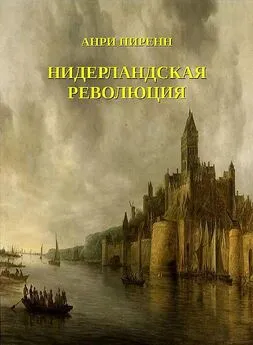Анри Пиренн - Средневековые города Бельгии
- Название:Средневековые города Бельгии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2001
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-8071-0093-
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Пиренн - Средневековые города Бельгии краткое содержание
Средневековые города Бельгии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, мы видим, что в силу любопытного контраста, те самые этапы конституционного развития, которые ознаменованы были в Льежском княжестве многочисленными конфликтами с епископом, в Брабанте были отмечены просьбами о помощи, обращенными герцогом к его подданным. В одном случае участие страны в государственном управлении было добыто силой и включено в мирные договоры, в другом — перед нами ряд подтверждающих его хартий, пожалованных государем. Льежцы прямо нападали на altum dominium своего епископа; брабантцы же довольствовались гарантиями, суживавшими функции верховной власти все более тесными рамками. Эта разница, несомненно, объяснялась различным положением в обоих случаях городов по отношению к князю. Вместо того чтобы постоянно устраивать восстания по примеру демократических городов епископства, большие брабантские города,
управлявшиеся олигархией из патрициев и купцов, остерегались рвать с династией, защищавшей их от ремесленников. Кроме того, могущество дворянства помешало им добиться того исключительного авторитета, которым пользовались их соседи. Наряду с ними значительную долю политического влияния сохранили бароны — baenrotsen , и рыцари — ridders , или smalheeren , и различие интересов поддерживало между обоими светскими сословиями известное равновесие.
Прекращение мужской линии династии в 1355 г. дало возможность подвести прочный фундамент под конституционную систему, выработавшуюся постепенно с начала XIV века. Прежде чем согласиться признать государем чужеземного князя, Венцеслава Люксембургского, мужа старшей дочери Иоанна III, Брабант, осознавший теперь свою территориальную индивидуальность, поставил свои условия и потребовал гарантий. И здесь инициатива принадлежала городам. За несколько месяцев до смерти герцога они вступили в союз между собой, решили не допускать никакого расчленения герцогства, обещали друг другу заставить «всю страну в целом» ( gemeen land ) признать государем того, в пользу кого они выскажутся, и оказывать друг другу помощь в сохранении своих вольностей и привилегий [1088]. Это общее соглашение между населением различных городов явилось как бы прологом к « Joyeuse Entree » ( blijde incomst ). Оно заранее предвосхищало условия этого знаменитого документа и предупреждало Венцеслава о том положении, которое ему предстояло занять среди его будущих подданных. По отношению к этому чужеземцу Брабант занял совсем иную позицию, чем он занимал по отношению к своим национальным князьям, наделенным авторитетом традиции и являвшимся хранителями власти, освященной вековым обладанием. Брабант видел в нем как бы претендента и соглашался признать его при условии компромисса, устанавливавшего на будущее время характер и функции верховной власти. Фактически « Joyeuse Entree », которой Венцеслав присягнул 3 января 1356 г., носила характер капитуляции [1089].
Этот документ подтверждал, подобно Фекскому миру, но более ясно и отчетливо, права страны по отношению к князю, освящая их конституционным актом, принятым обеими сторонами. Его главные пункты устанавливали неделимость государства, право замещать все должности только брабантцами, обязательство для князя заключать союзы, начинать войну, чеканить момент — лишь с согласия gemeen land (всей страны).
Под этим термином, который в начале V века был заменен термином Staeten , понимались три сословия страны: прелаты, бароны и рыцари, и брабантские города — « prelaete, baenrotsen ende smalheeren, ende die steden van Brabant ». После введения « Joyeuse Entree », как и до нее, роль первых оставалась очень ограниченной, проявляясь лишь в случае вотирования налогов, что касается обоих светских сословий, то их вмешательство в дела государственного управления продолжало усиливаться вплоть до правления Филиппа Доброго. При слабом Иоанне IV они почти совсем захватили в свои руки управление герцогством и взяли князя под свою опеку. Надо, впрочем, заметить, что в эту эпоху, от имени штатов, управляли фактически города. Освободившись от тяготевшей над ними олигархии, опираясь на герцога, они теперь нисколько не щадили его. Их политический идеал вдохновлялся, по-видимому, муниципальным строем, существовавшим в их стенах. Они желали подчинить князя штатам, где их воля была всемогуща, подобно тому, как их бургомистры и их эшевены, в свою очередь, подчинены были в каждом городе большому совету ( breeden raed ) городской общины. Таким образом конституционная история Брабанта, как и Льежской области, завершилась одинаковым образом — гегемонией городов.
Из всех нидерландских княжеств только Льежская область и Брабант обладали в XIV веке письменными актами, сообщавшими их конституционному строю законный характер. Ни в Генегау, ни во Фландрии не было ничего подобного. Установление договорного modus vivendi между князем и его подданными было бесполезно — в первом и невозможно — во второй, и в обоих случаях это отличие объяснялось опять-таки ролью городов.
В Генегау в Средние века не образовалось ни одного крупного городского центра, за исключением Валансьена. Эта область, которой в XIX веке предстояло столь блестящее промышленное будущее, имела тогда чисто земледельческий характер. Прекрасные равнины покрывали ее тогда еще неоткрытые угольные богатства, и только в тех местах, где уголь выходил на поверхность земли, устроили несколько копей, доставлявших топливо окрестным жителям. Графство, отлично возделанное, очень плодородное, повсюду распаханное, усеянное крупными церковными поместьями и замками, резко отличалось своими очаровательными пейзажами и своим цветущим видом по сравнению с бедностью и дикостью Арденн. Соседним областям, и в частности Фландрии, оно поставляло значительную часть нужного им зерна. Экономическое значение земледельческих классов далеко превосходило здесь значение городского населения. Монс, Авен, Ат, Бушен, Мобеж, Бинш представляли в конце концов лишь большие укрепленные крепости, местная промышленность которых имела рынком сбыта окружающие деревни. Их скромное население, состоявшее из зажиточных ремесленников и мелких рантье, влачило незаметное провинциальное существование. Здесь нельзя было встретить тех резких социальных контрастов и той напряженной и выражавшейся в непрерывном брожении жизни, которую мы видим в крупных суконных центрах Севера.
При этих условиях легко понять, что горожане Генегау не могли играть выдающейся политической роли. Их интересы, ограниченные очень узкой сферой, не приводили их в столкновение ни с князем, ни с духовенством, ни с дворянством. Граф призывал их на совет лишь тогда, когда чувствовал нужду в их денежной помощи. С 1338 г. становятся все многочисленнее «заседания» (« journées ») и «парламенты» (« parks merits »), на которых присутствовали депутаты горожан, то одни, то совместно с депутатами дворян, а также «прелатов и коллегий» [1090]. Мало-помалу это вмешательство страны в государственные дела сделалось нормальным явлением и стало законным. Вступление на престол новой династии на место дома д'Авенов (1345 г.) привело к таким же последствиям, как и в Брабанте при вступлении на престол Венцеслава. Маргарита Баварская обещала обоим первым сословиям уважать «добрые и старые обычаи страны» и принесла присягу жителям Монса и Валансьена сохранить в силе все их жалованные грамоты, патенты, привилегии И вольности [1091]. Таким образом ей с самого же начала пришлось считаться с городами. На основании молчаливого соглашения они стали принимать участие в делах управления наряду с дворянством и духовенством. Политическое равновесие гарантировалось традицией. Горожане довольствовались отведенной им ролью. Они не пытались подчинить себе князя и еще менее пытались лишить его верховных прерогатив. Все три сословия заняли каждое свое место около государя и приобрели право вотировать налоги. Без всяких грамот и привилегий, которые оговаривали бы их права, они сотрудничали теперь с князем. Хотя их право покоилось только на обычае, но оно было достаточно прочно. С середины XIV века [1092]их регулярно собирали вместе на «парламенты», которые под названием «штатов» оставались затем вплоть до конца старого порядка одним из основных элементов территориальной конституции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: