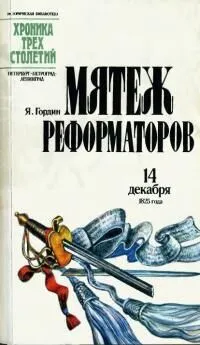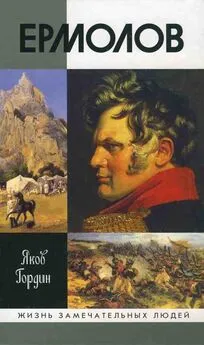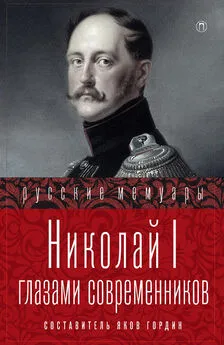Яков Гордин - Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825 года
- Название:Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лениздат
- Год:1989
- Город:Ленинград
- ISBN:5-289-00263-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Гордин - Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825 года краткое содержание
Для широкого круга читателей.
2-е издание, переработанное и дополненное
Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В этот момент, как писал Бестужев, «осыпало нас картечами»…
Николай дважды принимался командовать и дважды отменял команду. Наконец он скомандовал, повернул коня и поехал к дворцу.

Восстание 14 декабря 1825 года. Картина Р. Френца. 1950 г.
Но выстрела не было. Солдат у правофлангового орудия с ужасом смотрел на Бакунина: «Свои, ваше благородие…» Бакунин соскочил с коня и выхватил у него пальник.
Началась пальба орудиями по порядку.
Расстояние между батареей и восставшими не превышало сотни шагов.
Эту страшную минуту русской истории, ее скорбное величие замечательно описал Николай Бестужев: «Пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратились, ура солдат становились все реже и слабее. День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны и батарея артиллерии стала между ними с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек… Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и неподвижно.
С первого выстрела семь человек около меня упали; я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного судорожного движения — столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий повалили кучу солдат и черни, которая толпами собралась около нашего места. Я стоял точно в том же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием».
Корф, кропотливо собиравший сведения от очевидцев, пометил на полях рукописи Сухозанета: «Сделаны из трех орудий картечи две очереди (то есть шесть выстрелов. — Я. Г.). Потом забили дробь— первые два орудия пальбу прекратили, а третье, ставши по направлению Галерной, пустило два, а может быть, и три ядра по Галерной по личному приказу генерала Толя, который, помнится, сам направил первый выстрел. Это орудие догнало следующих у Монумента».
В пятом часу пополудни картечь опрокинула боевые порядки восставших. Солдаты и матросы бежали по набережной, по Галерной, прыгали на лед. От Конногвардейского манежа дважды ударило четвертое орудие.
Декабристы пытались оказать сопротивление. Николай и Александр Бестужевы собрали несколько десятков гвардейских матросов в начале Галерной, чтобы отбросить кавалерию, если она будет атаковать бегущих. Но орудия были переброшены к центру площади. По словам Николая Бестужева, «картечи догоняли лучше, нежели лошади, и составленный нами взвод рассеялся».
Вильгельм Кюхельбекер свидетельствовал; «Толпа солдат Гвардейского экипажа бросилась на двор дома, пройдя Конногвардейский манеж. Я хотел их тут построить и повести на штыки; их ответ был; „вить в нас жарят пушками"». На вопрос следствия, что побуждало его двинуть солдат «на явную гибель», он ответил с замечательной простотой: «На штыки хотел я повесть солдат Гвардейского экипажа потому, что бежать показалось мне постыдным…»
Наиболее решительную попытку предпринял Михаил Бестужев. Он начал строить московцев на невском льду, чтобы идти на Петропавловскую крепость и превратить ее в базу восстания, куда могли собраться рассеянные картечью роты.
Сухозанет, который преследовал восставших, выдвинув орудия к набережной, говорит о повальном бегстве мятежников. Однако педантичный Корф написал на полях его рукописи против этого места: «Я, приехавший на берег несколько после г. Сухозанета, видел уже некоторое стройное отступление — цепь стрелков и резервы за нею».
Но ядра разбили лед, солдаты стали тонуть, и колонна рассыпалась. Московцы кинулись к противоположному берегу, куда уже мчалась по Исаакиевскому мосту кавалерия…
Отступавший вместе с гвардейскими матросами Оболенский предложил Арбузову возглавить солдат и идти на Пулковскую гору. Деморализованный Арбузов резко отказался.
Восстание было разгромлено.
Пушки стали решающим и неопровержимым аргументом в политическом споре о будущем России. Очень скоро—3 января 1826 года в зимней украинской степи, под деревней Ковалевка, бьющая картечью батарея остановила и рассеяла мятежный Черниговский полк. Единственный восставший полк из тех семидесяти тысяч штыков и сабель, на которые рассчитывали вожди южан…
Героическая попытка дворянского авангарда вырвать судьбу страны из рук самодержавия закончилась катастрофой.
Мертвое отчаяние умного и чуткого к звучанию истории Николая Бестужева было отчаянием человека, ощутившего гибель своего мира…
ЭПИЛОГ
«Действователей 14 декабря» после восстания многократно называли безумцами. «О, жертвы мысли безрассудной!» — восклицал Тютчев.
Дальнейшая история империи показала, что безумцами были те, кто 14 декабря стрелял картечью в самых трезвых и здравомыслящих людей страны..
Есть свидетельство, что Сперанский, стоявший в момент первых картечных выстрелов у окна Зимнего дворца, сказал члену тайного общества Краснокутскому, оказавшемуся рядом: «И эта штука не удалась!»
Битый и ломанный российским политическим бытом Сперанский понимал, какая штука не удалась и что это значит для России.
Более уверенно чувствовавший себя Мордвинов сразу после казни и ссылки деятелей тайных обществ подал новому императору записку, в которой, в частности, было сказано: «Угнетение же всех составляет ясную гибель всего государства».
Но российское самодержавие не было способно воспринять эту мысль. И потому — обречено.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН [39] Звания и должности даются на декабрь 1825 г.
Адлерберг Владимир Федорович (1791–1884), полковник лейб-гвардии Московского полка, адъютант великого князя Николая Павловича 255, 256, 332
Александр Николаевич (1818–1881), великий князь, сын Николая I, будущий Александр II 20, 67, 68, 116, 156, 159, 171, 271
Александр I (1777–1825), император 15, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 31–33, 35, 36, 38, 40, 42, 50, 52, 56, 60, 66, 69, 77, 78, 85, 86, 90, 95, 96, 100, 111, 116, 136, 137, 141, 146, 187, 226, 228, 246
Александр Вюртембергский (1771–1833), герцог, главноуправляющий ведомством путей сообщения, дядя Николая I 134, 139, 337
Александра Федоровна (1798–1860), принцесса Прусская Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, с 1817 г. великая княгиня, супруга великого князя Николая Павловича, с 1825 г. императрица 29, 34, 56, 78, 187, 208
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: