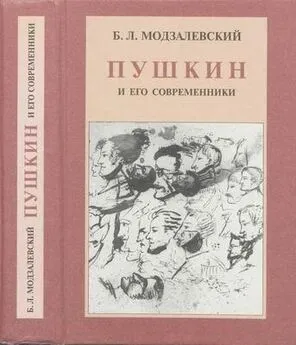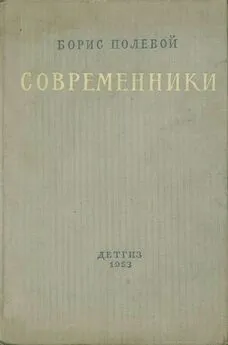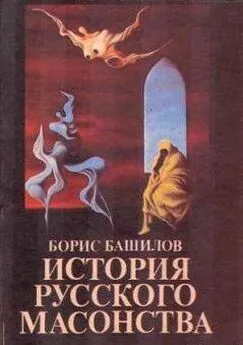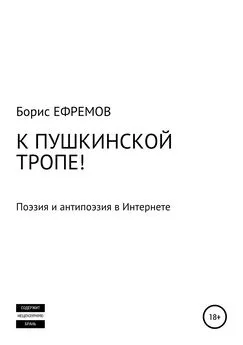Борис Модзалевский - Пушкин и его современники
- Название:Пушкин и его современники
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Искусство—СПБ»
- Год:1999
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-210-01504-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Модзалевский - Пушкин и его современники краткое содержание
Книга станет открытием для любителей российской словесности и истории, окажется необходимой не только учащимся, студентам и педагогам, но и многим профессиональным филологам. Указатель имён, примечания и упорядоченные библиографические сведения помогут ориентироваться в «густонаселённом» тексте.
Вся деятельность Бориса Львовича, от мелких публикаций до «Дневника» и «Писем» Пушкина, составляет своеобразную «Пушкинскую энциклопедию», куда обращаются постоянно все современные пушкинисты и где будут черпать сведения всякого рода грядущие поколения исследователей великого поэта. И все… будут вспоминать с глубокой и сердечной благодарностью создателя этой энциклопедии — Б. Л. Модзалевского.
Н. В. Измайлов (1974)
Издание выпущено при финансовой поддержке Администрации Санкт-Петербурга
Составление и примечания А. Ю. Балакина
Пушкин и его современники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так, в переездах с семьёй из Москвы в Чукавино и обратно, потекла мирная жизнь Ивана Ермолаевича. Осень и зиму 1832 г. молодые с С. X. Мудровой провели в деревне, где 13 сентября у них родилась дочь — Надежда Ивановна, которой автор этой статьи обязан сообщением многих драгоценных материалов. Зиму Великопольские обыкновенно проживали в Москве, в своём пресненском доме, ведя довольно открытый образ жизни, к которому Иван Ермолаевич всегда был предрасположен, проводя вечера в Английском клубе или принимая гостей у себя и посещая своих знакомых. Так, он часто бывал у Аксаковых, у которых в 1835 г. присутствовал при первом чтении «Ревизора» [652]*, к автору которого относился с каким-то обожанием. По свидетельству И. И. Панаева, Сергей Тимофеевич любил по вечерам играть в карты, и «между прочими партнёрами его были тогда И. Е. Великопольский и Н. Ф. Павлов» [653]. Заимствуем из тех же воспоминаний Панаева любопытное описание вечера, данного Иваном Ермолаевичем в 1839 г.: «Великопольский имел тогда собственный дом на Пресненских прудах. Однажды он давал в этом доме по какому-то случаю, а может быть — без всякого случая, бал и пригласил к себе всех старых и новых знакомых и, в том числе, меня и Белинского… Часу в девятом я отправился на бал… вместе с К. С. Аксаковым и Белинским… Дом его был набит битком гостями, оркестр гремел, танцы были во всём разгаре. Лакеи беспрестанно разносили разные прохладительные, конфекты и фрукты. Толпы любопытных собрались у дома. Сад на Пресненских прудах был также наполнен гуляющими. Белинский, К. Аксаков и я недолго оставались в комнатах, где была нестерпимая духота. Мы пошли гулять на Пресненские пруды. Когда стемнело, к изумлению нашему, часть Пресненских прудов была иллюминована и импровизировалось народное гулянье. Около подъезда дома, на дворе, толпы гудели; многие господа, незнакомые хозяину праздника, входили бесцеремонно в дом и угощались. Хозяин дома появлялся на крыльцо, разговаривал приветливо с стоявшими тут и отдал приказание угощать всех лимонадом, оршадом и конфектами. Подносы появлялись даже на Пресненских прудах. Из толпы явился какой-то поэт и продекламировал стихи в честь великодушного хозяина. Всё это было чрезвычайно оригинально.
„Вот какие праздники дают у нас в Москве! — воскликнул К. Аксаков, с торжественным, сияющим лицом обращаясь ко мне, — где вы увидите что-нибудь подобное?.. Не выражается ли в этом широкая, размашистая славянская натура? (и Аксаков при этом размахнул рукою). Как не любить нашу Москву, Иван Иванович, не правда ли?“» [654].
И действительно, натура у Ивана Ермолаевича была очень широкая: когда у него бывали деньги, он не любил считать их и сыпал ими направо и налево; а первые годы после своей женитьбы он часто получал значительные суммы с имений и с капитала, полученного им в приданое [655], особенно от продажи мачтового леса из своего Денежного; он много тратил на различные литературные затеи, на театр, которого стал ревностным посетителем; много денег уходило у него и на устройство праздников, подобных описанному Панаевым. По доброте своего сердца, Великопольский не упускал случаев помочь нуждающимся, а оказать поддержку литератору, к кругу которых он с гордостью причислял и себя и среди которых постоянно вращался, было для него прямым удовольствием. Так, например, сохранилось известие о том, с каким жаром отнёсся Иван Ермолаевич к распространившимся по Москве в конце 1838 г. слухам о том, что находившийся за границей Гоголь посажен за долги в тюрьму. «Иван Ермолаевич Великопольский, — писал С. Т. Аксаков Погодину, — сказал мне, что видел у Вас [656]Кони, который подтвердил неприятное известие о Гоголе, и предложил мне составить для него подписку. Великопольский даёт тысячу рублей. Мысль святая! Ведь это позор всем нам, если Гоголя засадят в тюрьму!» [657]Подписка состоялась, и известно, как кстати пришла к Гоголю помощь его московских приятелей и почитателей…
В следующем, 1839 г., Иван Ермолаевич своё пребывание в Москве отметил поддержкой, оказанной им, также весьма вовремя, Белинскому, бывшему тогда в большой нужде; вот что писал наш знаменитый критик И. И. Панаеву 19 августа 1839 г., в минуту тяжёлой нужды и во время болезни, когда ему не на что было купить даже лекарств: «Я было и нос повесил, но вдруг является И. Е. Великопольский, осведомляется о здоровье и просит меня быть с ним без церемоний и сказать, нужны ли мне деньги. Я попросил 50 рублей, но он заставил меня взять 100. Вот так благодетельный помещик! На другой день, перед самым отъездом своим в деревню, опять навестил меня» [658]. По словам Панаева, Великопольский, познакомившийся с Белинским через Аксаковых и знавший стеснённое положение, в котором тот часто находился, «нередко помогал ему» [659], чем, быть может, объясняется тот факт, что Белинский, не имев возможности с похвалой отзываться о произведениях добряка Великопольского и не желая огорчать его дурными рецензиями, старался обходить молчанием творения своего великодушного покровителя.
Иван Ермолаевич и после женитьбы не оставлял своих излюбленных литературных занятий, постоянно создавая новые темы для драматических и иных произведений, занимаясь для того чтением, историческими и другими изысканиями. По нескольким сохранившимся черновым тетрадям нам известно, что в 1820—1840 гг. им были написаны пьесы: «Мнемозина, большая пастушеская лирическая фантазия в 2-х действиях в стихах, с хорами, превращениями, балетом и великолепным зрелищем», «Сирота» (сцены), «Вдова», драма в 5 действиях, «Пьеретта и Душета, или Полицейское следствие» (сцены), «Чудо Перуна» (1828—1829), лирическое представление в 2-х частях, из коих первая, под заглавием «Заряна», напечатана была в изданном Великопольским в 1859 г. «Раскрытом портфеле» (с. 121—151), и трилогия «Часы с флейтой», первая часть которой была напечатана позже в том же сборнике произведений Великопольского. Наконец, он перевёл в стихах всю Вольтерову «Заиру», рукопись которой свидетельствует об изумительном усердии Ивана Ермолаевича и его настойчивости. Кроме того, из имеющихся у нас двух томов «Пёстрого альбома» — записной книжки, в которую Иван Ермолаевич заносил всякие заметки, выписки, замечания, наблюдения и т. п., мы видим, что им задуманы были и собирались материалы для трагедии «Сумбека», для исторических драм «Крещение Владимира», «Михаил Ярославич Тверской» и «Иван Сусанин», для драм «Торжество мнения» и «Воскресное дитя» (впоследствии была окончена), для комедий «Добросовестный», «Скупой» и т. д., и т. д. С этой целью он записывал случайно слышанные им летние выражения, народные песни, пословицы, остроумные замечания; выписывал из книг, газет и журналов интересующие его сведения по самым разнородным наукам, отмечая против каждой выписки, к какой комедии, трагедии, повести и т. п. её следует отнести. Весь этот обильно собранный материал Великопольский старательно, часто насильственно, вставлял в свои драматические произведения, отчего они теряли цельность и представляли из себя лишь ряд отрывочных наблюдений, набросков, часто не связанных между собою. Такими именно качествами отличалась и изданная Великопольским в Москве, в феврале 1837 г., трагедия в четырёх действиях «Владимир Влонской», над которой он трудился очень долго, начав её ещё «в холостом быту» [660]; примечания к предисловию и к пьесе поражают количеством ссылок автора, для подтверждения своих мнений, на многочисленных писателей по самым разнообразным специальностям [661]и на произведения Гюго, Байрона, Руссо, баронессы Сталь, баронессы Криденер, виконта d’Arlaincourt и др., на сочинения Козлова, Грибоедова, на журнальные статьи и т. д. В предисловии он написал целое исследование в защиту мелодрамы… Пьеса эта, отвергнутая Петербургской театральной дирекцией, при первом же появлении своём на свет навлекла на автора насмешки со всех сторон. Белинский, прочитав её, в письме к А. А. Краевскому от 4 февраля 1837 г. предлагал прислать разбор «Владимира», говоря, что «трагедия издана очень красиво, с большими затеями, а написана ещё с большею бездарностию» [662]. В «Библиотеке для чтения» и в «Сыне отечества» появились предупредительные извещения о выходе трагедии. «В Москве явилась вещь неслыханная, — писал в „Библиотеке для чтения“ [663]Сенковский, — несравненно любопытнее Галлеевой кометы, — трагедия с двумя хвостами. Никогда ещё род человеческий не видывал такого дивного феномена! Это необычайное явление называется „Владимир Влонской“, трагедия Ивельева , — и только. Из объявления, приложенного к „трагедии Ивельева“, видно, что она продаётся пачками по двенадцати экземпляров , и между прочим продаётся у Ротгана, который, не дождавшись „трагедии Ивельева“, умер в начале прошлого года». Вслед за тем в «Литературной летописи» той же «Библиотеки для чтения» [664]помещена была следующая заметка о «Владимире Влонском»: «Два месяца любовались мы на эту трагедию. Сама по себе она, если хотите, штука не важная, что-то вроде драмы: вся завязка в том, что муж ревнует жену ко всякому мужчине, — дело очень позволительное. Он ревнует её особенно к молодому гусару, — это ещё позволительнее. А развязка, — развязка в том, что муж подозревает жену, будто она уехала из Московского Благородного Собрания с вышереченным гусаром. Это уже непозволительно. — Куда? зачем? — Крик, шум, чуть не драка. Однако мужа разуверяют наконец, и он, от досады ли, что был прав, или от радости, что оказался неправым, бежит в свой кабинет, схватывает пистолеты, — вы думаете, чтоб стреляться? нет! — и застреливается сам. — „Увы, что зрю?“, вскрикивает жена и умирает со страху от такой глупости мужа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: