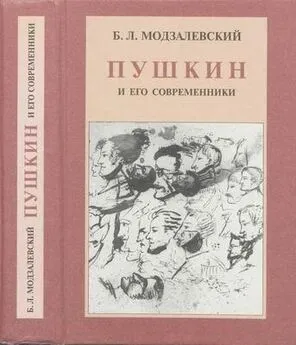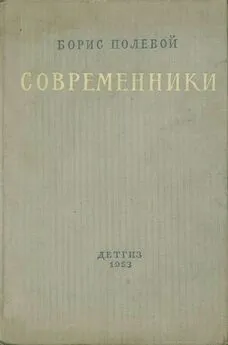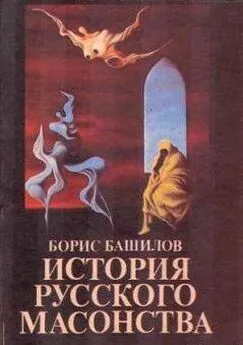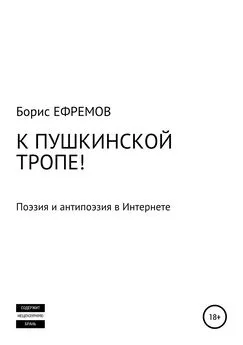Борис Модзалевский - Пушкин и его современники
- Название:Пушкин и его современники
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Искусство—СПБ»
- Год:1999
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-210-01504-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Модзалевский - Пушкин и его современники краткое содержание
Книга станет открытием для любителей российской словесности и истории, окажется необходимой не только учащимся, студентам и педагогам, но и многим профессиональным филологам. Указатель имён, примечания и упорядоченные библиографические сведения помогут ориентироваться в «густонаселённом» тексте.
Вся деятельность Бориса Львовича, от мелких публикаций до «Дневника» и «Писем» Пушкина, составляет своеобразную «Пушкинскую энциклопедию», куда обращаются постоянно все современные пушкинисты и где будут черпать сведения всякого рода грядущие поколения исследователей великого поэта. И все… будут вспоминать с глубокой и сердечной благодарностью создателя этой энциклопедии — Б. Л. Модзалевского.
Н. В. Измайлов (1974)
Издание выпущено при финансовой поддержке Администрации Санкт-Петербурга
Составление и примечания А. Ю. Балакина
Пушкин и его современники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В одном из последних №№ Атенея прочёл я ожесточённый разбор моих романов. В оправдание своё повторю то, что я сказал в статье моей: «Знакомство моё с Пушкиным». Прибавлю ещё, что я писал о Волынском под благородным впечатлением, окружавшем в 30-х годах могилу его, когда с восторгом повторялись известные стихи [1032]:
………приведи
К могиле мученика сына:
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина.
Сама великая Екатерина в завещании своём, приложенном к следственному делу Волынского, оправдала его: такому авторитету верить можно. Копию с этого завещания, списанную мною со всею точностью с подлинника, который я получил в 1837-м году от Жуковского, посылаю вам — на случай, если вы её не имеете. Из неё увидите, что следствие над Волынским производилось под пытками: хороша истина, выжатая клещами и на дыбах!! достойно исторического вероятия следственное дело, произведённое таким образом!.. Если следствие напечатано кем в Трудах исторического общества — конечно, ради оправдания отчёта о нём, сделанного некогда одним сильным лицом, — почему ж было не напечатать завещания мудрой государыни, из которого некоторые изречения следовало бы напечатать золотыми буквами? [1033]Тогда права обвинителей и адвокатов Волынского были бы более уравновешены. Легко критику осуждать меня под защитою обнародованного акта, когда он знает, что другой, сильнейший документ, его опровергающий, не мог быть издан в свет. Он нападает с оружием, которое дано ему правительством в руки против человека, не имеющего права употребить оружие, которое ему запрещено. Благородно ли это? Притом справедливо ли взыскивать с меня за то, что я изобразил в 1835 году Волынского не по историческим сведениям, сделавшимся известными только в 1858 году и до сих пор бывшим под государственным секретом? И по юридическим началам закон только со времени его издания имеет силу, а не действует назад. Разве шемякинский или афанасьевский суд действует иначе! Признаюсь, виноват, кругом виноват за то, дескать, что не знал в 1835 году то, что можно было только узнать в 1858 году?
И за отрывок Колдуна на Сухаревой башне [1034]критик ожесточается против меня. Упрёки в искажении мною характера молодого Долгорукова также пристрастны и несправедливы. Напечатанные мною письма [1035](по просьбе книгопродавца) служили только вступлением к роману: Колдун на Сухар<���евой> б<���ашне>. Весь роман не был бы написан в эпистолярной форме, а в повествовательной по главам. По письму Долгорукова к Финку нельзя судить, как разовьётся характер первого впоследствии романа; да и Долгорукий играет в нём не главное лицо — главные лица у меня Брюс и его племянник, женившийся потом на княжне Долгоруковой, бывшей невесте Петра II, когда она возвратилась из Сибири. В этом письме Долгорукий выражается, как мальчик, хотя и с прекраснейшими мечтами о счастьи России, но более всего занятый голубою лентою через плечо, обер-камергерским мундиром и красотою девушки, с которою он стоять будет в церкви под брачным венцом. Кто не знает, что много обещавшие юноши не исполняли прекрасных надежд, которые они сулили! В письме барона Остермана к Брюсу (стр. 440 и 441-я) вернее обозначается, чего должна ждать Россия от таких людей, каковы члены семейства Долгоруких. «Пожалеешь и его [Меншикова], — пишет Остерман, — когда подумаешь, кто его заменяет. По крайней мере он был с великими заслугами Петру и отечеству, имел великий ум, испытанное мужество; а теперь его наследники… подумать-то страшно, что за люди!» и далее: «Предсказываю на несколько лет царство детей… Страшусь не без причины за творения Петра Великого. Ты знаешь отца и дядю маленького фаворита: не великие по душевным качествам , они захватили бразды правления. Можно судить, куда эти возничие умчат колесницу России, если скоро не успеют сами сломить себе шею». Почему же притом, осуждая меня по одному вступлению к роману и то по одному письму юноши Долгорукова, то есть по одной стороне медали, не вздумать взглянуть на другую сторону её?..
Не знаю, что и сказать об оправдании Бирона критиком, по словам князя Щербатова, будто «народ был порядочно управляем, не был отягощаем налогами», когда все историки Анны Иоанновны именно и называют управление временщика тираническим, кровожадным, за жестокие истязания народа во взыскании налогов. Отчего ж ходил такой стон по земле русской? отчего ж целые селения бежали тогда в Литву? не от благодетельного же управления? [1036]Я начинаю сомневаться, не возникла ли эта защита Бирона ради того, что сильные потомки его ещё здравствуют и имеют родственные связи с сильными и знатными фамилиями русскими? Да и г-дин Афанасьев не приходится ли с родни Тредьяковскому?..
Наконец скажу, — меня судят, как биографа, как историка, а не как исторического романиста. Если бы разбирать строго исторические характеры в романах самого Вальтер-Скотта, сколько бы нашлось в них романических прикрас? [1037]
Не вдаваясь в печатную полемику с г-ном Афанасьевым, вот всё, что я хотел сказать вам в защиту свою. Простите, если я наскучил вам ею.
Прошу верить в совершенное уважение и искреннюю преданность.
Ваш покорнейший слуга
С. Кривякино, И. Лажечников
16-го ноября 1858
Тон глубокого убеждения звучит в этом письме заслуженного писателя, — убеждения, но не пристрастия. И действительно, современники свидетельствуют, что Лажечников был совершенно чужд этого чувства, что он умел быть совершенно беспристрастным. Человек «в высочайшей степени добрый, откровенный, совестливый, нежный», по отзыву близко и издавна знавшего его К. Н. Лебедева [1038], Лажечников с редкою любовию и в то же время беспристрастием следил за литературою, отзываясь на всё талантливое, что появлялось в ней: он, по выражению И. И. Панаева, принадлежал к тем «живым, избранным и редким натурам, которые никогда не стареются духовно и потому чувствуют всегда большую наклонность к молодым поколениям. За это их не очень жалуют их сверстники и вообще все отсталые люди, идеал которых не в будущем, а в прошедшем. Лажечников — едва ли не единственный из литераторов своего времени… искренно и без всякой задней мысли, с полным сочувствием всегда протягивающий руку всем замечательным деятелям последующих литературных поколений. Он располагает к себе с первого взгляда своею простотою, мягкостью, благодушием. Он настоящий поэт, увлекающийся, беспечный, исполненный фантазий, чуждый всякого практического такта, не уживающийся с действительностью и не входящий с нею ни в какие сделки…» [1039]. Любя и почитая Белинского и пользуясь привязанностью последнего, он высоко ставил Гоголя, восторгался Тургеневым, до конца дней своих как бы оставаясь чистым и увлекающимся юношей, простосердечным, «неисправимым» идеалистом. «Почувствовавши к кому-нибудь симпатию, он отдавался ей весь, пылко, искренно, как юноша», — свидетельствует Т. П. Пассек. Одною из таких симпатий Лажечникова был, несомненно, Пушкин, память которого всегда была особенно дорога ему: к ней относился он с таким благоговением, что когда в 1856 г. Г. Е. Благосветлов написал статью «История русского романа» и в ней отвёл Лажечникову, как романисту, высокое место, последний писал А. В. Старчевскому, что «чести стоять между Гоголем и Пушкиным он не заслуживает…» [1040]. Конечно, Лажечников был прав, отводя себе в истории русской литературы более скромное место [1041], но заслуженного им никто отнять не вправе: Лажечников должен считаться родоначальником русского исторического романа; в этом отношении он занимает почётное место в истории нашей словесности, и имя его может быть поставлено наряду с Пушкиным, если последнего считать родоначальником нашего художественного романа. Успех в современном ему образованном обществе романы Лажечникова имели чрезвычайный, по выражению одного критика — жгучий, — и похвала Пушкина, высказанная по адресу романов Лажечникова, не фраза; их долго читали и перечитывали с наслаждением; поэтому прав был Лонгинов, когда говорил, что имя Лажечникова «не умрёт в летописях нашей литературы, в которые навсегда занесены: „Последний Новик“, „Ледяной Дом“ и „Басурман“».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: