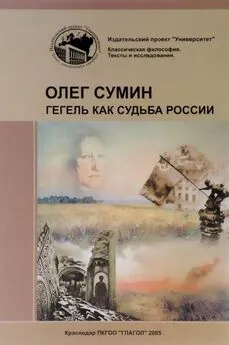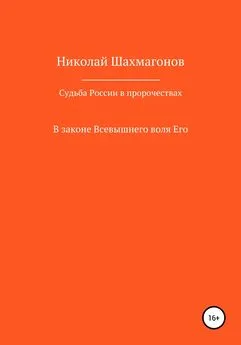Олег Сумин - Гегель как судьба России
- Название:Гегель как судьба России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2005
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Сумин - Гегель как судьба России краткое содержание
Предназначается для преподавателей, аспирантов и студентов социально–гуманитарных специальностей, а также для всех интересующихся проблемами классической философии, исторической судьбы России и славянского мира.
Гегель как судьба России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Излишним является доказывать, что мышление Ленина совершенно неспособно понять внутреннюю необходимость гегелевских положений. Голова Владимира Ильича озабочена совершенно неметафизическими проблемами, философия, наука, Гегель ему необходимы всецело для полемики с политическими соперниками и для оправдания своих действий. Для Ленина философия Гегеля есть лишь средство. Но так обстоит дело только с точки зрения того исторического времени. В более широкой перспективе, с точки зрения общей истории русской культуры, с точки зрения философии истории, в действительности здесь происходит обратное: Ленин и сама политическая борьба оказываются средством объективноисторического утверждения философского разума. Выскользнув из духа гегелевской школы, форма философского разума оказалась совершенно не по зубам рассудку эпохи — мы видим как бессилен Владимир Ильич (и вся эпоха, начиная с Фейербаха) проникнуть в само содержание гегелевской системы. Его мысль отскакивает от идеи разума, как от барабана, он не может сделать ничего другого, кроме как формально скользить по плоской поверхности философских определений, содержащих под собой бесконечную глубину. Мышление Ленина есть мышление всецело эмпирическое, это рассудок далеко докантовского рационализма, но происходит невероятное: в лице Ленина мы видим, как рассудок, не будучи способным понять разумную идею, в то же время крепко жмется к ней, верит в нее, как в высшую истину, не хочет быть «формальной логикой», хочет быть «диалектическим методом»: «Метод есть чистое понятие, относящееся только к самому себе… Метод философии …есть не внешняя форма, но душа содержания», — выписывает Ленин, совершенно не отдавая себе отчета о всем величии этой фразы. Для Ленина «метод» приобретает характер метода практических действий. Научный метод, содержащий в себе субъективный, теоретический момент, Лениным схватывается всецело как метод объективной борьбы за власть. При этом то, что власть нужно обязательно захватить, оказывается требованием самого метода! В деятельности Ленина мы видим совершенно отчетливую объективацию философской идеи.
Со стороны же формы мышления в лице Ленина и всей последующей эпохи мы имеем дело с тщетной попыткой опытного мышления, вульгарного позитивизма подняться над собой в сферу философского разума. Ленин — это барон Мюнхгаузен, который хочет вытащить себя за волосы из болота эмпиризма. Он сам по способу своей мысли еще всецело в этом болоте, но в его сознании навязчиво брезжит мысль, что опытная «наука не может быть сама себе философия». Требование разума подняться над эмпирией в лице Ленина, однако, не может дать разумных же аргументов, поэтому необходимость выйти за пределы опытного сознания носит у него внешний, идеологический характер: «…Мы должны понять, что без философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не могут выдержать борьбы против натиска буржуазных идей…» [119] Ленин В. И. ПСС. 2‑е изд. Т. 20. Ч. 2. С. 497.
.
У Ленина в голове несомненно большая каша, но требование, предъявленное им опытной науке, совершенно верное. Сознание опытной науки не имеет права претендовать на абсолютность своих методов, и право разума поставить границу претензиям опыта проявляет себя в том, что эту границу ставит само же опытное сознание, которое, опытно же, воспринимает философскую форму, философский метод, обусловив своим опытным характером низведение спекулятивной диалектики до рассудочной идеологии. Впоследствии идеология еще безжалостнее поступит с опытной наукой. Зеньковский и многие другие историки русской мысли справедливо упрекали «диалектический материализм» в том, что он грубо вмешивался в сферы положительных наук: «В филологию, в историю, в математику, тем более в естествознание вносится диалектический материализм, соответствие с которым считается мерилом истинности научных исследований… Это извращение коренных основ научного и философского мышления…» [120] Зеньковский В. В. История русской философии Т.2. Кн. 2. С. 53.
.
Нельзя отрицать нелепости и трагического характера этого вмешательства (хотя бы в деле с Лысенко). Но в то же самое время мы должны отметить, что это вмешательство имело под собой право умозрительной философии быть мерилом метода опытных наук. Однако поскольку сама умозрительная философия в этот период была низведена до примитивной и идеологизированной эклектики, то право формы философского разума перед формой опыта реализовало себя как право идеологии. Этот трагизм нужно определить как самоистребление опыта, являющееся свидетельством невозможности опыта ухватить адекватно форму спекулятивной философии.
1.2.3. А. Деборин и отношение к Гегелю в рамках идеологии коммунистического государства
Я думаю, что именно наличие у А. М. Деборина (Иоффе) (1881–1963) диалектического пафоса в духе Плеханова было условием того, что Ленин на сомнения Е. Ярославского [121] Бывшего в то время секретарем ЦК РКП (б).
в целесообразности привлечения Деборина и Аксельрода к чтению лекций по философии в Университете Свердлова ответил, что их нужно привлечь обязательно: «По–моему, обязательно… Их бы обоих привлечь к выработке детальнейшей программы (и конспекта лекций) по философии и плана изданий по философии» [122] Яхот И. Подавление философии в СССР // Вопросы философии. 1991. № 9. С. 47.
. То, что Ленин прибавил при этом: «Если станут агитировать за меньшевизм, мы их поймаем: присмотреть надо» [123] Там же.
, — не помешало Деборину реализовать тот круг идей, которого требовала история.
Деборин всецело оправдал то направление мысли, которому, как мы видели, придавал большое значение Ленин — по соображениям более практическим. Деборин же сумел придать им и теоретический характер. Он талантливо и максимально широко для своего времени развил те теоретические возможности, которые имплицитно содержались в позиции Ленина и работах Энгельса. Эту позицию ему и созданному им направлению удалось защитить в так называемой «дискуссии механицистов и диалектиков», которую можно определить как основную теоретико–идеологическую проблему всего ленинско- сталинского периода. Уже из этого закрепившегося в истории названия видно, что дискуссия эта стала реакцией опытной науки на идеологизированную форму философии Гегеля: «…Механисты в массе своей были естествоиспытатели, … деборинцы — философы. Основную свою задачу они видели в разработке философских категорий в их абстрактном общем виде, опираясь при этом на систему диалектической логики Гегеля. Они в механистах — представителях естествознания — видели основное препятствие на этом пути, поскольку некоторые из них, не скрывая, повторяли основной позитивистский тезис: «Наука — сама себе философия». Деборинцы в этом видели угрозу для философии как абстрактной науки [124] Там же. С. 61.
.
Интервал:
Закладка: