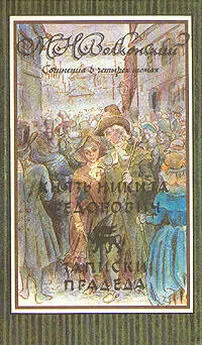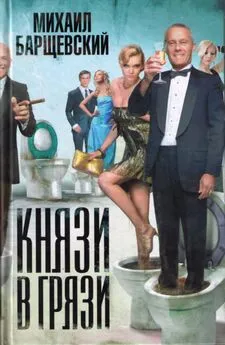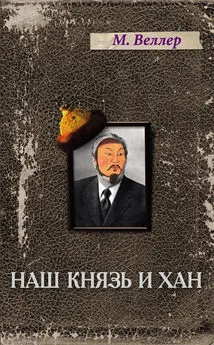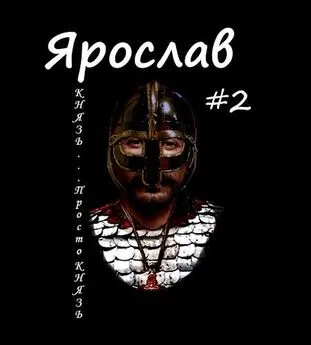Михаил Бенцианов - «Князья, бояре и дети боярские»
- Название:«Князья, бояре и дети боярские»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-08539-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Бенцианов - «Князья, бояре и дети боярские» краткое содержание
Книга рассчитана на историков и читателей, интересующихся вопросами становления и развития отечественной государственности.
«Князья, бояре и дети боярские» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В общегосударственном масштабе система поручительства при выдаче жалованья детям боярским получила распространение в 1570 г. В пересказе Ф.И. Миллера во владимирской десятне требования к поручительству сводились к тому, чтобы «каждой сын боярской поставил по себе два поручителя в том, что ему служити верно, великому государю не изменить и за границу не бежать» [770] Курбатов О.А. «Конность, людность и оружность»… С. 272–273; Миллер Ф.И. Известия о дворянах российских… СПб., 1790. С. 34. В родословной Гориных упоминается выписка из этой же десятни, где у Ф.М. Коптева Горина было отмечено 2 поручителя (РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Ед. хр. 26. Л. 1).
. Видна близость этой формулировки к обязательствам поручных записей по членам Государева двора, которые получили широкое хождение в 1560–1570-х гг. на случай возможных отъездов и измен: «Служити ему за нашею порукою государю нашему царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии и его детем… до своего живота и не отъехати ему за нашею порукою, и не побежати в Литву, ни в Крым, ни в Немцы, ни в ыные ни в которые государства, ни в уделы ни х кому» [771] ПЗ. С. 50.
.
Примерно в это же время в структуре «городов» было инициировано появление окладчиков, выборных лиц, которые должны были следить за распределением детей боярских по статьям и выдачей им причитающегося денежного жалованья. О.А. Курбатовым была отмечена связь между окладчиками и авторитетными представителями служилых «городов», которые ранее выступали в качестве информаторов государственной власти при проведении верстаний и выдаче жалованья [772] Курбатов О.А. «Конность, людность и оружность»… С. 273–275. В деле муромской «литвы» 1523/24 г. упоминается пример подобного поведения местных детей боярских: «Мы, государь, сказывали все на того Федка (Крыжина. – М. Б. ) то, что он емлет жалованье, а на службу не ездит и с службы бегает» (АСЗ. Т. 4. № 502. С. 387–388).
.
Очевидной представляется также их связь с «лучшими людьми», производившими «разборы» в опричных уездах. По свидетельству И. Таубе и Э. Крузе, при учреждении опричнины Иван IV произвел смотр своих будущих слуг: «Приказал каждому отдельному отряду воинов… явиться к нему и спрашивал у каждого его род и происхождение. Четверо из каждой области должны были в присутствии самых знатных людей показать после особого допроса происхождение рода этих людей» [773] Рогинский М.Г. Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе // Русский исторический журнал. Пг., 1922. Кн. 8. С. 35.
.
Вряд ли стоит согласиться с оценкой О.А. Курбатова роли окладчиков. По его мнению, введение этого института было связано с «клубком проблем», возникших в конце опричнины. Несоответствие норм «конности, людности и оружности» по Уложению 1556 г. наряду со злоупотреблениями опричников и сожжением Москвы могли вылиться в социальный взрыв. В этих условиях «опричнину решительно упразднили, а проведение поместного и денежного верстания власти фактически передали в руки выборных представителей самого служилого «города» – окладчиков» [774] Курбатов О.А. «Конность, людность и оружность»… С. 285–286.
. Возражения вызывает как решительность отмены опричных порядков, которые вскоре были продолжены созданием особого двора, так и активная позиция служилых масс. Судя по первым десятням, функции окладчиков были значительно более скромными и состояли в докладе лицам, производившим смотры, о служебной годности местных детей боярских «про их службу и про отечество, кто кому службою и отечеством в версту».
От конца 1570-х гг. до нашего времени в полном виде сохранилось лишь три десятни: коломенская 1577 г., московская 1578 г. и ряжская 1579 г. Восстановить систему взаимоотношений служилых людей внутри каждого «города» удается на основании лишь первой из них. Детей боярских Московского уезда в силу специфичности их столичного положения трудно назвать единой корпорацией. Возле имен многих из них стояли характерные пометы «на Москве не живет». Отсутствовал в московской десятне список окладчиков, что не дает возможности оценить их роль в системе поручительства. Ряжская десятня, с другой стороны, включала в себя только имена 100 детей боярских, выбранных для участия в «немецком походе, и не охватывала весь состав этого «города». Ценным оказывается также привлечение переяславской десятни 1584 г., хотя последние годы Ливонской войны не могли не сказаться на состоянии этой корпорации [775] Сташевский Е. Десятни Московского уезда 7086 и 7094 гг. // ЧОИДР. М., 1911. Кн. 1. С. 3–28; Десятни. С. 219–249; Переяславльская десятня верстальная и денежной раздачи 1584-го года (далее – ПД) // Сторожев В.Н. Мате риалы по истории русского дворянства. М., 1909. Вып. 2. С. 3–25.
.
Введение окладчиков, очевидно, должно было уменьшить количество злоупотреблений при проведении смотров. Не меньшее значение имела их роль поручителей по местным детям боярским. Денежное отягощение, сопровождавшее «поруку», вряд ли делало институт поручительства популярным в широких слоях служилых людей. В сравнении с нормами владимирской десятни 1570 г. количество поручителей в десятнях конца 1570-х гг. по каждому отдельному представителю той или иной корпорации заметно выросло. Поручители делили между собой ответственность «в службе и в деньгах» и часто не считали возможным (или им не разрешали это делать) брать на себя слишком высокие финансовые риски. Показательной в этом отношении является ряжская десятня 1579 г. На 100 записанных в ней лиц (выборных) приходилось уже 289 поручительств (рост 44,5 % в сравнении с нормами владимирской десятни). 26 лучших ряжан не выступали в качестве поручителей. Многие из членов «городов», особенно невольные переселенцы из опричных уездов, должны были встречаться с трудностями в поиске поручителей по себе. Окладчики, в силу возложенных на них обязанностей, брали на себя эти функции, что позволяло получать причитающееся жалованье всем боеспособным детям боярским.
Практика поручительства не всегда учитывала реалии конкретного смотра и, видимо, охватывала более протяженные промежутки времени. В коломенской десятне 1577 г. среди поручителей были отмечены Темир Колтовский, Б. Григоров и В.Ю. Козлов-Морозов. Первые из них к этому времени находились среди четвертчиков и были, таким образом, вычленены из состава местного «города». К моменту смотра, скорее всего, умер В.Ю. Козлов-Морозов. Все указанные лица действительно служили по Коломне, но, видимо, в более ранее время. Аналогичная ситуация прослеживается в переяславской десятне 1584 г. Среди поручителей в ней фигурировали Б. Напольский, Ф.М. Тимонов, Б.Ф. Трусов, И. Воинов Подлесов, которые не значились в наличном составе переславского «города». За исключением Б. Напольского здесь были зафиксированы их младшие родственники (у Б.Ф. Трусова сын). Б. Напольский был вотчинником Переславского уезда еще в 1556/57 г. [776] Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история… С. 210, 211, 213.
Интервал:
Закладка: