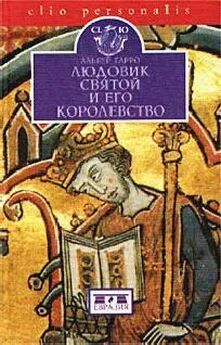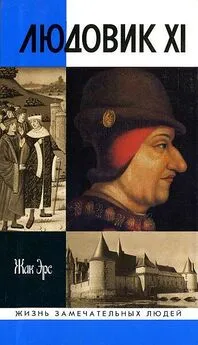Жак Ле Гофф - Людовик IX Святой
- Название:Людовик IX Святой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Научно-издательский центр Ладомир
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-86218-390-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жак Ле Гофф - Людовик IX Святой краткое содержание
Людовик IX Святой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Король, подающий милостыню, да еще в то время, когда денежные пожертвования в общем широко практиковались государями и знатью, а также и горожанами, которые уже вошли в высшее общество благодаря новым «делам милосердия», восхваляемым монахами нищенствующих орденов и подпитываемым деньгами, хождение которых все ширилось, особенно поражал своих современников. В проповеди в Орвието б августа 1297 года Бонифаций VIII говорил:
Что касается деяний, то святость его жизни особенно проявилась в подаче милостыни нищим, возведении богаделен и церквей и во всевозможных делах милосердия, перечень которых был бы слишком длинным [1230].
И Папа добавляет, что, при желании оценить размер его подаяний, в качестве примера можно было бы привести всего одну из введенных им мер благотворительности: он решил, что во время каждого «въезда» в Париж будут подаваться дополнительные милостыни монахам и особенно братьям нищенствующих орденов. Гийом де Сен-Патю посвящает пространную главу его «делам милосердия» и подчеркивает (нам, впрочем, это известно), что объезды Людовиком своего королевства были прежде всего кампаниями по раздаче милостыни [1231]. Жуанвиль тоже обращает на это внимание:
Король был так щедр на милостыню, что где бы он ни появлялся в своем королевстве, повелевал раздавать ее бедным церквам, лепрозориям, странноприимным домам, больницам и бедным и честным мужчинам и женщинам [1232].
И он в свою очередь посвящает целую главу «великим и щедрым пожертвованиям» короля на строительство богаделен, среди которых Дом Трехсот (la maison des Quinze-Vingts) в Париже для трехсот слепых, на возведение церквей и монастырей. Мало того, что Людовик Святой во много раз увеличил размеры королевской милостыни, — он закрепил их в одной грамоте 1260 года, утверждавшей должность священника, отвечавшего за раздачу милостыни (l’aumônier), — как бы продолжая меры, начатые его дедом Филиппом Августом около 1190 года и подражая тому, что уже делал король Англии. Людовик институционализировал милостыни, раздаваемые его предшественниками, которые он оценил в 2119 парижских ливров, 63 мюида зерна (в Париже 1 мюид равнялся примерно 1500 литрам) и 68 000 штук сельди, которые должны были раздать священник и бальи. Один экземпляр этой грамоты был передан в странноприимный дом на память и как руководство. В этом тексте подробно описано королевское милосердие «в таких деталях, что их хватит, чтобы обрисовать нам его дух, столь же благородный, сколь и скрупулезный, если не сказать мелочной» [1233]. Наконец, раздача милостыни при Людовике Святом была интегрирована в королевский «отель», место, где первая функция, административная и сакральная, объединялась с третьей, экономической, финансовой и каритативной [1234].
В своем завещании, составленном в феврале 1270 года, он провозглашает великие принципы своей щедрости и милосердия. Король распределяет все свое движимое имущество и доходы с лесов королевского домена между тремя типами наследников: жертвами королевских злоупотреблений, по которым следует произвести реституции, жертвами чиновников, которым следовало бы возместить ущерб; далее следует длинный список странноприимных домов и монашеских орденов (в первую очередь нищенствующих), которые использовали бы их на раздачу милостыни бедным и строительство церквей. За это получатели средств должны были молиться за него, его семью и королевство. Если бы после таких реституций и даров еще остались деньги, то его преемник должен был использовать их «во славу Господа и на пользу королевства» [1235].
Впрочем, Людовик Святой не был таким расточительным, как о нем говорят. Разделяя в этом смысле новые ценности ведения экономики, бережливости, он точно так же, как умерял в себе пыл доблести мудростью безупречного человека, обнаруживает тенденцию считать более справедливо, более умеренно, в связи с чем А. Мёррей доказал, что это была новая черта общества, которое в публичных и частных актах начало считать в двойном смысле ratio «счет и разум» [1236]. В «Поучениях» сыну он говорит так:
Любезный сын, заповедую тебе, чтобы ты расходовал денье исключительно на благие цели и чтобы они справедливо взимались. И мне бы очень хотелось, чтобы ты вел себя разумно, то есть чтобы избегал пустых расходов и несправедливых поборов и чтобы твои денье справедливо взимались и использовались во благо…
Но самое главное, у Людовика Святого в третьей королевской функции выдвигается на первый план функция чудесного исцеления. Король Франции компенсирует все, что он утратил из функции волшебного хлебопашца, обретя авторитет исцелителя золотушных возложением на них рук.
Дар чудесного исцеления, вырастающий из первой функции, сакальности короля, эволюционирует, как мне кажется, в направлении третьей функции через измерение святости, исцеления, любви к ближнему, как это в основном и происходит в случае Людовика Святого. В глазах его современников он уже не король-чудотворец, а король-благодетель. Исцелять — дело милосердия. В ХIII веке больной или бедный — все едино. Людовик Святой не делал различия между ними.
Мне кажется, что тема короля-Солнце, которая еще только пробивалась у агиографов Людовика Святого и которая, вне всякого сомнения, выросла из традиции эллинистических правителей и римских императоров, пройдя, возможно, через Византию, имела тенденцию в перспективе западноевропейского совершенного христианского короля незаметно превратить функцию священническую в функцию благотворительную.
Лучи королевского солнца Людовика Святого озаряли его подданных и согревали их.
На наш современный взгляд, то, что прежде всего характеризует третью функцию, определяемую ее связью с благоденствием и материальным воспроизводством общества, — это экономика. Теперь следует обратиться к Людовику Святому в связи с экономикой. Здесь в его поведении не все ясно.
Какой виделась экономика французскому королю ХIII века, как он себе ее представлял? Какова была его заинтересованность в ней, какое влияние он оказывал на нее, какие подступы к осмыслению и пониманию персонажа могут при этом открыться? Поставить нужные вопросы нелегко, тем более, насколько мне известно, прецедентов, которые могли бы нам помочь, нет. И более того, это трудно по главной причине: то, что мы называем экономикой, не конституирует в Западной Европе ХIII века особую сферу ни как материальная реальность, ни как ментальная категория. Экономика прошлого — не простая научная проблема, и она редко поднимается историками и экономистами. Помощником мне был только К. Поланьи [1237]с его понятием вживленной ( embedded ) экономики (то есть экономики, которая не выступает как таковая в своей специфичности, но всегда является в комплексе, в единстве, не обладая ни автономией, ни репрезентацией, не имея имени собственного), без всего того, что придает этому комплексу его основную и особенную окраску.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: