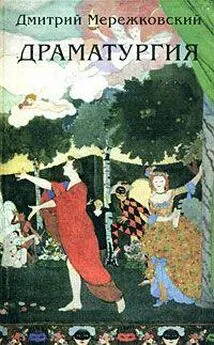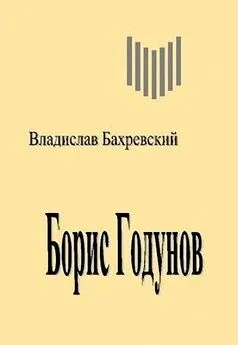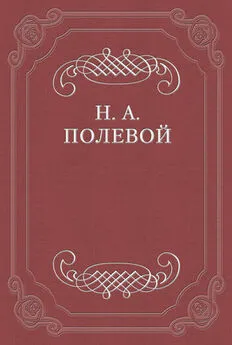Сергей Платонов - Борис Годунов
- Название:Борис Годунов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мультимедийное издательство Стрельбицкого
- Год:2016
- Город:Киев
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Платонов - Борис Годунов краткое содержание
История восхождения Бориса Годунова на трон всегда изобиловала домыслами, однако автор данного исследования полагает, что Годунов был едва ли не единственным правителем, ставшим во главе Русского государства не по праву наследования, а вследствие личных талантов, что не могло не отразиться на общественной жизни России. Платонов также полагает, что о личности Годунова нельзя высказываться в единственно негативном ключе, так как последний представляется историку отменным дипломатом и политиком.
Борис Годунов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Выходя из своих старых гнезд, с Верхней Волги и с Верхней Оки, крестьяне и холопы знали, куда им можно идти. Само правительство звало этих «верховых сходцев» для заселения новых городов и пограничной укрепленной «черты» в Понизовье (на Волге) и на «диком поле» (на юг от Средней Оки в черноземном пространстве). Новые места манили к себе переселенцев своим простором, прелестью климата, богатствами почвы, лесов и рек. Выходило так, что власть одними мерами как бы выталкивала народ из внутренних областей государства, а другими — привлекала его на окраины, обаятельные для поселенцев и безо всяких казенных приглашений. Попадая в новые условия жизни, эти поселенцы не всегда задерживались в городах и у землевладельцев, а шли дальше за «черту» искать «новых землиц» в «диком поле» и там «казаковали» на полном просторе за пределами государственного достижения. Вольная колонизация опережала правительственную; она создавала за пределами государства, но в его соседстве, опасную для государственного порядка казачью вольницу. Современник (Авраамий Палицын) неодобрительно говорил, что Грозный и его ученик Борис поощряли эту вольную колонизацию юга.
«Последова же царь Борис в неких нравех царю Ивану Васильевичу [писал Палицын] ежебы наполнити на край предел землы своея воинственым чином, дабы против сопостат крепц и были украиные грады… и гад кто злодействующий осужен будет к смерти и аще убежит в те грады… то тамо да избудет смерти своея».
По словам Палицына, этих «злодействующих гадов» царь Иван держал в страхе «разумом и жестостью», а царь Федор — «молитвою»; при Борисе же эти «змии» задвигались против государства, и скопилось на украйнах «боле двадесят тысяч сицевых воров». Возникла прямая опасность государственных осложнений от выселения обездоленного и недовольного рабочего люда, нашедшего себе некоторую организацию вне государства.
Выход трудовой крестьянской и холопьей массы с ее прежних мест сопровождался важными последствиями не только на окраинах, куда эта масса шла, но и в центрах, откуда она выходила. В центрах создался острый хозяйственный кризис, вызванный недостатком рабочих рук, и возникла ожесточенная борьба за рабочие руки. Выход крестьян влек за собою хозяйственную «пустоту».
Писцовые книги XVI века отмечали очень много «пустошей», вотчин пустых и поросших лесом; сел, брошенных населением, с церквами «без пенья»; порозжих земель, брошенных «за пустом» без пашни. Местами была еще жива память об ушедших хозяевах, и пустоши еще хранили на себе их имена, а местами и хозяева уже забыты, и «имян их сыскати некем». Хозяйства мелких служилых людей от «пустоты» обычно погибали вовсе: малопоместному человеку не с чего было явиться на службу и «вперед было собратися нечем»; он сам шел «бродить меж двор», то есть побираться, бросая опустелое хозяйство на произвол судьбы. Крупные же землевладельцы — служилые и церковные — имели большую экономическую устойчивость. Льготы, которыми они обыкновенно обладали в отношении податном и правовом, манили на их земли трудовое население, ибо и ему сообщали известные выгоды. Затем возможность сохранить «мирское» устройство и самоуправление в большой вотчине привязывала крестьян к крупным земельным хозяйствам. Наконец, и выход крестьянина от крупного владельца был не так легок; администрация больших вотчин в борьбе за крестьян имела достаточно опыта, влияния и средств, чтобы не только удерживать за собою своих крестьян, но еще и «называть» на свои земли чужих.
Таким образом, когда мелкие землевладельцы разорялись вконец, крупные и знатные держались и даже пытались скупать запустевшие и обезлюдевшие земли и возобновлять на них хозяйство. Для сохранения своего и для заведения нового хозяйства у таких владельцев существовали испытанные приемы. Они прибегали, во-первых, к перевозу чужих крестьян на свои земли и, во-вторых, к различным видам экономического закабаления живших у них крестьян и всякого иного «работного» люда, попадавшего в сферу их хозяйства.
«Перевоз» крестьян к концу XVI века принял характер общественного бедствия. Закон, изложенный в судебниках московских, указывал, что «крестьяном отказыватися из волости в волость и из села в село один срок в году: за неделю до Юрьева дни осеннего и неделя по Юрьеве дни осеннем». Ежегодно осенью, в законный для отказа период, начиналась своеобразная кампания «отказов»: агенты богатых землевладельцев, «отказчики», являлись в чужие хозяйства и, соблазнив крестьян к выходу, «отказывали» их и «перевозили» на земли своих доверителей и хозяев. Но с места крестьян выпускали нелегко и не без борьбы. Часто раздаются, по словам В. О. Ключевского, «во второй половине XVI века жалобы отказчиков на то, что землевладельцы не выпускают отказываемых крестьян, куют их в железа или, согласившись на вывоз, приняв отказ, грабят животы вывозимых крестьян и насчитывают на них слишком много пожилого».
Но если своевольничали и насильничали те, кто терял крестьян, то не лучше поступали и те, кто их вывозил. Отказчики перевозили и перезывали к себе не только таких крестьян, которые имели право выхода, но всех без разбора, кого только они могли вытянуть из-за других землевладельцев. При этом они действовали «насильством», с явным нарушением правительственных правил и частных интересов. Поэтому крестьянский «выход» обычно происходил «среди споров, драк и насилий, ежегодно повторявшихся в ноябре и наполнявших суды кляузными тяжбами» (слова В. О. Ключевского). Бесконечное «насильство» в данном деле озабочивало правительство. Еще в царствование Грозного были принимаемы какие-то, нам точно не известные, меры относительно крестьянского вывоза и было дано какое- то «уложенье», чтобы крестьян насильством не возили или чтобы их и вовсе не вывозили в известные сроки — в «заповедные лета», которые точно определялись наперед правительством. Что это было за «уложенье» Грозного, сказать трудно; во всяком случае, московское правительство уже при Грозном пришло к необходимости вмешаться в дело крестьянского перевоза для охраны как своего интереса, так и интересов мелких служилых владельцев. Переход крестьян, сидевших на тягле, лишал правительство правильного дохода с тяглой земли, а землевладельца лишал и законного дохода, и возможности служить с опустелой земли.
Если крестьянским «отказом» и «вывозом» крестьян со стороны землевладельцам удавалось пополнять рабочую силу в своих экономиях, то мерами другого порядка им удавалось навсегда закреплять за собою добытых работников. Эти меры обычно сводились к экономическому закабалению работника. Способов для того было много. Хотя по закону расчеты по крестьянской земельной аренде не связывались с расчетами крестьян по другим обязательствам, однако же конец земельной аренды — «выход» — вел, естественно, к ликвидации и прочих денежных расчетов крестьянина с землевладельцем. Владелец не выпускал крестьянина без окончательной расплаты, и чем более был опутан крестьянин, тем крепче сидел он на месте. Именно потому владельцы очень охотно давали своим крестьянам хозяйственную подмогу, «ссуду», ссужали им «серебро», то есть давали им от себя хозяйственный инвентарь и хлеб в зерне — «на семена и емена» (на посев и прокорм), или же просто деньги в долг. Хотя ни ссуда, ни серебро не влекли за собою «служилой кабалы», то есть не превращали крестьянина в холопа, однако они давали хорошие поводы к самоуправному задержанию крестьянина и тяготели над сознанием должника-земледельца, нравственно обязывая его держаться того господина, который помог ему в его нужде. Чрезвычайное развитие крестьянской задолженности во второй половине XVI века засвидетельствовано многими документами, и оно объясняется именно тем, что кредитование крестьян было полезно и удобно для землевладельцев.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: