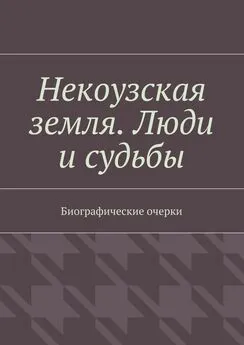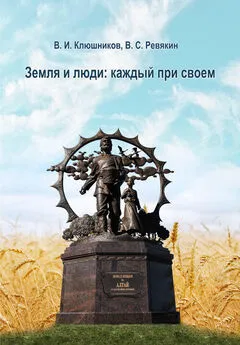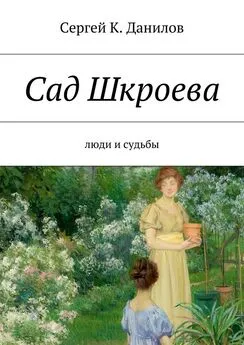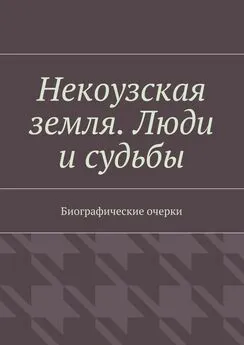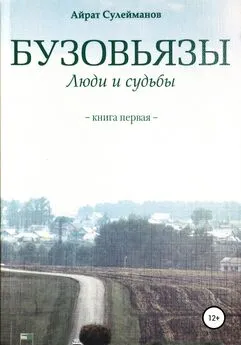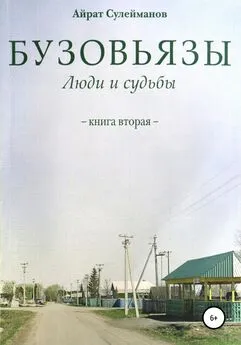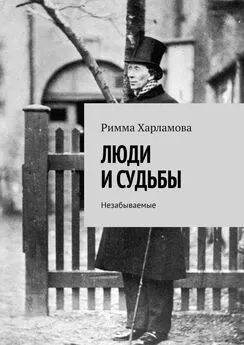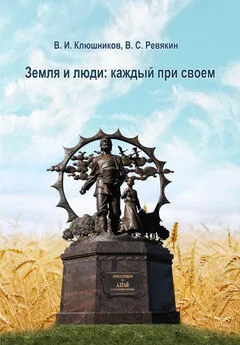Некоузская земля. Люди и судьбы
- Название:Некоузская земля. Люди и судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:26
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Некоузская земля. Люди и судьбы краткое содержание
Некоузская земля. Люди и судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дурдин Иван Иванович (1823—1899), купец, промышленник, мануфактур-советник, благотворитель
Иван Иванович Дурдин родился в селе Шестихино Мышкинского уезда Ярославской губернии (ныне — Некоузский район) в 1823 г. в семье крепостного крестьянина. В конце 1920-х гг. его отец выкупился, уехал на отхожий промысел в Москву. В начале 1930-х гг. преуспел на ниве пивного производства и в 1938 г. забрал сына Ивана в Петербург. Иван Иванович прошел хорошую практическую школу, постепенно приобретая навыки, необходимые в купеческом деле. Когда он стал работать на заводе, со временем ему поручили вести главный документ фирмы — торговые книги. После смерти отца (1878 г.) Иван Дурдин вместе с младшим братом Андреем возглавили дело. Иван Иванович стал председателем Правления Товарищества, Андрей — директором-распорядителем. В 1881 г. старая система варки пива (огневая) была заменена на паровую. К концу XIX века на заводе действовало пять паровых машин общей мощностью 300 лошадиных сил, три паровых котла, установлено современное специальное оборудование. Процессом по-прежнему руководили приглашенные иностранные мастера, но постепенно им на смену приходили русские, выучившиеся у иностранцев. Пивоваренный завод Товарищества выпускал популярные марки пива «Пльзенское», «Кабинетное», «Столовое», «Богемское», «Шведское», «Черное», «Баварское светлое» и «Баварское темное», а также «Дурдинское светлое» и «Дурдинское темное». Особняком стоял «Английский портер» — темное пиво с высоким содержанием алкоголя, в значительнейшей степени составивший славу Товариществу. Выпускались также квасы, лимонады, напитки на меду — «Мед №1», «Мед №2» и «Мед фруктовый». Склады продукции имелись не только при заводе на Обводном канале, но в Царском селе, Петергофе, Кронштадте, Шлиссельбурге, в Новой Ладоге, в Кашине. Открылся завод Товарищества в Рыбинске. В год Товарищество выпускало около миллиона ведер пива и иных напитков. В цехах трудились 380 человек, «автопарк» составлял более сотни лошадей. Они впрягались в специальные повозки с фирменной символикой и развозили пиво по столице — в городе действовала дюжина фирменных магазинов. Дурдинские напитки разливались в специальные бутылочки в форме изящной многогранной пирамидки коричневого или красно-янтарного цвета. Особенно престижные, а значит, и особо дорогие сорта пива разливались в «полубутылки». Респектабельные рестораны и гостиницы получали пиво Дурдина в затейливых графинах. Завод входил в пятерку ведущих столичных пивоваренных предприятий. В 1873 г. Иван Иванович основал Общество вспоможения бедным при своей приходской церкви. Оно содержало на свои средства богадельню в собственном доме Общества на Курляндской улице, В 1910-х гг. там проживало 10 мужчин и 44 женщины, в 1914 г. — 64 человека. В доме находилось также 12 бесплатных комнат «для бедных интеллигентных женщин». имени И. И. Дурдина, детский приют на 20 мальчиков и 24 девочек в возрасте от пяти лет. И. И. Дурдин был женат дважды и от двух браков имел большую семью. Умер в 1899 г. и похоронен на Митрофаниевском кладбище.
Дыренков Николай Иванович (1898—1937), советский изобретатель-конструктор танков
Николай Иванович Дыренков родился 12 апреля 1898 г. в семье крестьянина д. Малая Режа Веретейской волости Мологского уезда (ныне — затопленная часть Некоузского района). Отец его, Иван Алексеевич, трудился разнорабочим на железной дороге, а решив выучить своих сыновей в образовательных учреждениях Рыбинска, подрядился сторожем в лютеранскую кирху. За работу получал всего лишь десятирублёвое жалованье, но главной ценностью была квартира в подвальном помещении кирхи. Проживая в этом подвале, Николай в 1908 г. окончил Рыбинское второе приходское начальное училище, в 1910 — первый класс Карякинского училища, а в 1910—1914 гг. — ремесленную школу при механико-техническом училище М. Е. Комарова. Из ремесленной школы Николай вышел техником. В годы революции Дыренков оказался в Петрограде, где оценили его технические познания и назначили исполняющим обязанности начальника воздушной обороны Петрограда. В 1918 г. он возвратился в Рыбинск, где вновь пришлось жить с родителями и младшим братом в подвале кирхи. Рыбинский исполком горсовета поручил молодому инженеру Дыренкову создание Рыбинского Совета Народного Хозяйства и назначил управляющим. В середине апреля 1918 г. Н. И. Дыренков выехал в Москву и выступил с отчётом в Высшем Совете Народного Хозяйства. Он рассказал о работе рыбинского совнархоза и изложил план восстановления и развития местной промышленности. Выступление Николая Ивановича на вечернем заседании 15 апреля состоялось в присутствии Ленина, которого заинтересовал толковый управленец из Рыбинска. Председатель совнаркома ещё дважды (18 и 20 апреля) принимал его. Во время бесед с Дыренковым Ленин «…подчёркивает, что национализировать нужно лишь тогда, когда есть уверенность в успехе предприятия». На вопрос Дыренкова, кого можно брать в сотрудники, говорит: «Всех — несаботажников». Руководство ВСНХ предложило Н. И. Дыренкову занять пост заведующего отделом машиностроения, но он отказался. Ленин на инструкции, полученной Дыренковым в ВСНХ, написал письмо в адрес властных структур Рыбинска следующего содержания:
«Рассказ т. Дыренкова о принимаемых им в Рыбинске мерах к поднятию трудовой дисциплины, о поддержке их рабочими показал мне, что рыбинские товарищи берутся за решение самых важных и неотложных задач текущего времени правильно, и я прошу представите-лей Советской власти и рабочих организаций г. Рыбинска принять от меня пожелания ещё более энергично работать и достигнуть наилучших успехов на этом поприще. Председатель СНК Владимир Ульянов (Ленин)». Естественно, активная деятельность молодого управляющего СНХ Рыбинска нравилась не всём, так глава местного нефтяного комитета направил в Москву, в отдел топлива при ВСНХ, письмо с жалобой на вмешательство в его дела Дыренкова. Из Москвы пришло грозное письмо о недопустимости вмешательства местного СНХ в дела нефтяного комитета. В ответном письме Дыренков деликатно объяснил, что Москва обязала местные советы народного хозяйства иметь отделы по топливу, а «…я в топливное дело не вмешиваюсь, а лишь получаю сведения из фирм «Мазут и Нобели». А нефтяной комитет во главе с Гальберштадтом выступил с нелепой речью, чтобы рабочая конференция запретила товарищу Дыренкову распоряжаться нефтью. Конференция отклонила его предложение, так как я такого распределения не произвожу, но тов. Гальберштадт сделал в Москву донос…». Очевидно, бескомпромиссность беспартийного инженера Дыренкова умножала число его противников, и он вынужден был покинуть Рыбинск. Несмотря на короткий период работы на руководящем посту в Рыбинске Николай Иванович Дыренков запечатлён в истории города как яркая, но малоизвестная личность. Архивных сведений о нём мало не только потому, что инженер рано уехал из Рыбинска и работал в городах Нижней Волги, Закавказья и в Одессе, но также из-за того, что он попал под тяжёлый каток репрессий 1937 г. «Знавшие Дыренкова поражались его огромной работоспособности и разносторонности интересов. Он метко стрелял. Увлекался живописью. Хорошо понимал музыку. Однажды Николай Иванович поставил цель — овладеть несколькими языками. Занимался по ночам. Правда, разговорную речь не осилил, но зато бегло читал техническую литературу. Но главным занятием для ума и души были новые конструкции машин, в том числе автобусов», — пишет историк Юлия Чубукова. Из Рыбинска Дыренков переехал на Нижнюю Волку и принял должность инженера на Ижорском заводе. Свою короткую, но очень яркую карьеру он начал в 1927 г., предложив построить по его чертежам «бронированный автовагон» с двигателем внутреннего сгорания. Проект был реализован в металле и, что более важно, успешно эксплуатировался в течении нескольких лет в интересах наркомата здравоохранения Украины, «намотав» 6500 км. Спустя полтора года Дыренков направил в РВС СССР письмо с предложением построить колесно-гусеничный 2-башенный танк (Д-4), а в конце 1930 г. по его инициативе начались работы по бронировке тракторов «Коммунар» и Caterpiller (Д-10, Д-11 и Д-14). Учитывая огромный охваченный материал, руководство УММ сочло возможным создание опытно-конструкторского и испытательного бюро (ОКИБ) под руководством Дыренкова и поручить ему продолжить работы по постройке бронеавтомобилей. Ходила такая легенда: «В 1931 г. к нему в конструкторское бюро на Ижорский завод прибыл зам. наркома обороны. И увидел на столе американский журнал «Арми Ордонанс» с изображением нового бронеавтомобиля. Находчивый Дыренков быстро доложил, что и его бюро ведет работу над подобной техникой. И более того, на завтра он готов показать результат. Едва начальство отбыло, Дыренков приказал снять кузов со служебного Фордика и вместе с рабочими собрал на нем имитацию бронекорпуса из фанеры. Затем по кускам фанеры как по лекалам вырезали заготовки из броневой стали и склепали из них уже настоящий бронекорпус. К полудню следующего дня готовый образец предстал пред строгие очи замнаркома. И этот броневик приняли на вооружение. Части Красной Армии, укомплектованные броневиками Д-8 принимали участие в зимней войне с Финляндией. Некоторое количество этих бронеавтомобилей было захвачено противником и после восстановления использовалось в финской армии до 1943 г. В том же 1931 г. была построена модификация Д-12, отличавшаяся от броневика Д-8 наличием турельной установки с 7,62-мм зенитным пулеметом «Максим», которая была смонтирована на крыше корпуса и могла использоваться для борьбы с низколетящими самолетами противника. Стрельба по воздушным целям велась стоя. В компоновке Д-12 еще сказывалось влияние тачанки по мысли конструктора, машина должна была вести разведку, а при встрече с противником отходить, прикрываясь огнем. Ни Д-8, ни Д-12 не могли устроить военных, ибо эти машины не отвечали требованиям, которые армия предъявляла к бронеавтомобилям того периода. В конечном счете, в 1932 году на смену Д-8 пришел броневик ФАИ, вооружение которого было установлено в башне кругового вращения. Но Дыренков не успокоился. Скоро его КБ представило новые модели Д-9 и Д-13. Тщательно взвесив все «за» и «против» руководство пришло к заключению о возможности постройки небольшой серии Д-13 из 10 единиц, но только после его модернизации. Сборку серийных машин хотели развернуть на Московском железнодорожном ремонтном заводе (Можерез) в Люблино, куда летом 1931 г. переехало ОКИБ. Тут оказалось, что корпуса слишком сложно для имеющихся мощностей этого предприятия. Дыренков снова переработал конструкцию машины, отправив документацию по нему на Подольский крекингоэлектровозостроительный завод, но и здесь появились огромные трудности с освоением совершенно новых деталей и способа их сборки, в связи с чем лишь в начале 1933 г. на Можерезе началось изготовление первых бронемашин. Окончательную сборку всех 10 машин завершили к маю 1933 г., после чего серийные Д-13 были переданы в войска. Впрочем, карьера Д-13 оказалась на редкость продолжительной. «Кочуя» по различным подразделениям эти бронемашины большую часть времени использовались как учебные, что в некоторой мере позволило сберечь ресурс их ходовой части. Когда в конце 1936 г. был поднят вопрос о модернизации устаревших бронеавтомобилей, обнаружили, что Д-13 всё ещё числятся на балансе и после ремонта могут эксплуатироваться дальше. В 1937 г. АБТУ РККА приняло решение переставить БА-27 и БАИ на шасси ГАЗ-ААА, так что возможно и Д-13 подвергли такой же доработке. На 15 сентября 1940 г. бронемашины Д-13 имелись в составе следующих военных округов: ЛВО — 1, МВО — 1, ПриВО — 1, ОрВО — 3, ХВО — 1. По всей видимости, такой же состав сохранялся до начала войны с Германией, но использовались в боях бронемашины Д-13 остается неизвестным. За краткий период работы в Опытно-конструкторском и испытательным бюро УММ, под его руководством было создано более 50 моделей (не только гусеничной бронетехники, но и броневагонов и т. п.). Под руководством Дыренкова были разработаны следующие виды бронетехники: танкетки Д-7, Д-44; лёгкие танки, Д-10 (1931) на базе гусеничного трактора «Коммунар 9 ГУ» (изготовлен один опытный образец), Д-11 (1931) на базе гусеничного трактора «Катерпиллер-60» (изготовлен один опытный образец); средние танки Д-4 (1931) (изготовлен один опытный образец), Д-5 (1932) (изготовлен только макет); бронированный десантный танк Д-14 (1931) (изготовлен один опытный образец); химический танк (танк химического нападения) Д-15 (1931) (изготовлен один опытный образец, который даже не испытывался); колёсная боевая химическая машина Д-39. Лёгкие бронеавтомобили: Д-8 (1931) на базе автомобиля ГАЗА (выпускался серийно на Ижорском заводе), Д-12 (1931) на базе автомобиля ГАЗ-А, отличался от Д-8 вооружением и незначительно конструкцией корпуса. На базе его затем был выпущен бронеавтомобиль ФАИ (выпускался серийно). Средние бронеавтомобили: Д-9, Д-13 (1931) на базе автомобиля Форд-Тимкен. Автобронедрезина Д-37. Модернизированный танк БТ (Д-38). Кроме того, Николай Иванович принимал участие в разработке корпуса для лёгкого танка Т-20 (1930). После расформирования Опытно-конструкторского и испытательного бюро УММ РККА в декабре 1932 г. был назначен заместителем директора НАТИ и начальником отдела механизации и моторизации НАТИ. Что касается самого конструктора, то в декабре 1932 г. военные отказались от его услуг, уволив его с должности начальника опытно-конструкторского и испытательного бюро. После этого Дыренков предлагал свои услуги КБ ОГПУ, но и здесь его ждала неудача. Арестован 13 октября 1937 г. Приговорен: ВКВС СССР 9 декабря 1937 г. Обвинение: участие в диверсионно-террористической организации. Расстрелян 9 декабря 1937 г. Место захоронения — Московская область, Коммунарка. Реабилитирован в декабре 1956 г.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: