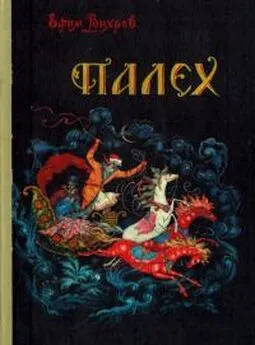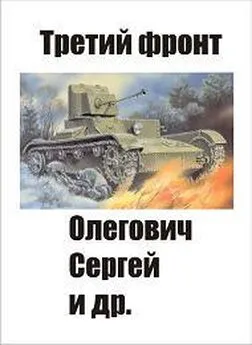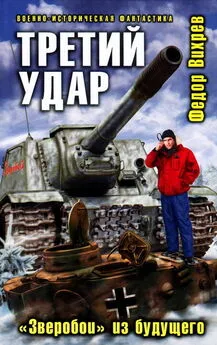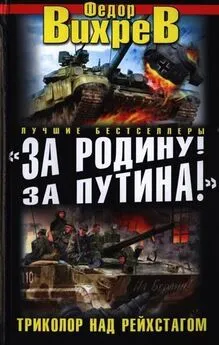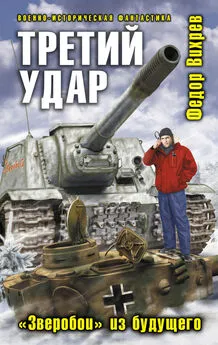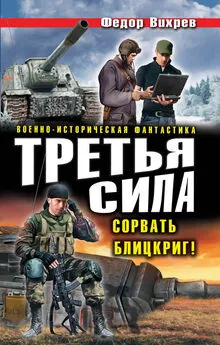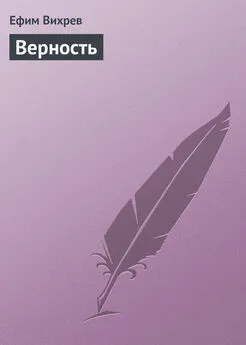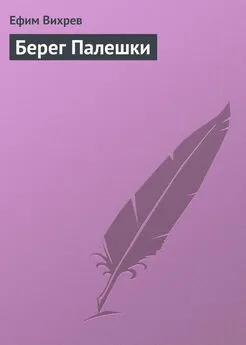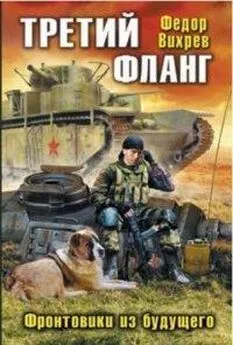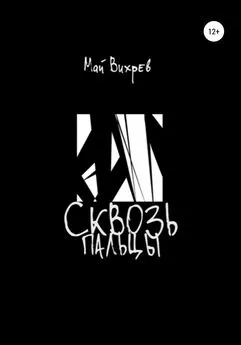Ефим Вихрев - Палех
- Название:Палех
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Верхне-Волжское книжное издательство
- Год:1974
- Город:Ярославль
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ефим Вихрев - Палех краткое содержание
Палех - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Богомаз» была мне кличка —
Это всем ведь не секрет,
Ваше миленькое личко
Перевел я на портрет.
Или так:
Ваш портрет писан с любовью,
Облик в нем красы немой.
Он весь дышит нежной кровью,
Доброй лаской, неземной.
Нету в нем красы фиктивной.
Здесь лишь русский милый тип
Русской барышни активной —
Красоты родной антик.
Платичник Н. Махов становится пастухом, но, не справившись с этой трудной работой, поступает в милицию, взяв, по выражению Балденкова, «вместо дудки револьверт».
Иконописец С. Д. Корин становится пожарным при огнескладе, потом завхозом при детдоме и, наконец, оседает, найдя свое место, библиотекарем Палехского нардома.
Будущий А. В. Котухин подвергается трудмобилизации. В мобилизационной комиссии спрашивают его:
— Что вы умеете делать?
— Писать иконы, — отвечает он.
— Иконы нам не нужны, — говорят ему, — а печником можете быть?
— Могу научиться...
— А лапти плесть умеете?
— Мудрость не велика, — отвечает Котухин.
И его записывают в лапотники. Теперь, сидя над миниатюрами, он порой вспоминает со смехом:
— В одну зиму триста двадцать человек обул...
Так вот Палех и мыкался от дела к делу, потеряв самого себя. Когда, наконец, все успокоилось, когда, перепробовав сотни дел, каждый приткнулся к чему-нибудь, тогда и наступило возрождение — рождение второго Палеха.
По извечным законам естественного отбора сильные выживают, преобразуя свое лицо. И в Палехе нашлась маленькая группа художников, которые не могли, в силу своей одаренности, приткнуться ни к милицейскому «револьверту», ни к лаптям.
Самый момент всякого возрождения всегда неуловим, как неуловимо раскрытие цветка из бутона. И совсем неважно, в конце концов, кто именно и кого именно надоумил расписывать сначала деревянные игрушки, кто были первыми учредителями Артели древней живописи и как датирован первый протокол артели. Все это имеет только внешний, узко краеведческий интерес. Важно то, что гибелью (в художественном смысле) многих сотен был сохранен десяток самых лучших и закаленных.
Игрушки принесли им первое дуновение славы. Потом, после игрушек, безыменные рисунки на папье-маше, уже далеко ушедшие от лубка, но еще не знавшие лака, поездка к лукутинцам для изучения способов заготовки сырья и победа над лукутинцами, которые никогда не были художниками.
И вот — первые дипломы, ярмарки в Нижнем, парижская «Grand Prix», Лион, Венеция, Милан, Нью-Йорк, музеи, столбцы газет и журналов.
«Угль превратился в алмаз».
Но и тут, конечно, не могло обойтись без курьезов: в то время как Париж выдает палешанам «Grand Prix», некое наше учреждение шлет Палеху заказ на двадцать тысяч коробок из папье-маше для электрических батарей!
Иваново-Вознесенск — имя труднопроизносимое, не укладывающееся в обычную метрическую строку. Поэты избегают употреблять его в своих стихах, а иваново-вознесенцы в разговоре отбрасывают вторую, церковную, половину слова и именуют город просто Ивановом. В этом имени нет ни кричащей о себе красоты, ни исторической загадки. Иваново звучит предельно просто, что очень соответствует характеру самих ивановцев. Но под этой простой и бедной одеждой скрывается внутреннее богатство, счастливая несхожесть и самобытная красота.
Революция, возродившая Палех и отдавшая его Иванову, захотела как бы подчеркнуть это свое веление удивительным именным совпадением: возрожденный Палех — это не что иное, как маленькая кучка Иванов и Ивановичей: Иван Михайлович Баканов, Иван Васильевич Маркичев, Иван Петрович Вакуров, Иван Иванович Голиков, Иван Иванович Зубков, Алексей Иванович Ватагин. Разбежавшись по этой ивановской дорожке, хочется присоединить К числу Иванов и прочих художников: Александра Котухина, Дмитрия Буторина, Николая Зиновьева, Аристарха Дыдыкина...
Биографии Иванов схожи, как имена. У всех, за немногими исключениями, трехвековая художественная преемственность и пьяницы отцы, у всех — сельская школа в детстве и шестилетняя учеба у Сафонова или Белоусова. Каждый из них оставил крупицы своей работы где-нибудь в Новодевичьем монастыре, в Грановитой палате, в московских и питерских храмах. Все они встречались на своих иконописных путях с В. М. Васнецовым или Нестеровым. Не обладая большой грамотностью, все они, словно по уговору, прочитали на своем веку «Историю искусств» Гнедича или Бенуа. И все побывали в окопах.
Но схожесть житейских путей и схожесть имен только ярче оттеняет различность Иванов. По одинаковым дорогам каждый из них пронес свою особую жизнь, свою линию, свой цвет.
Иван Баканов... Вопреки цвету его фамилии (бакан — багряный цвет), образ его связывается в моем представлении с цветами, охряно-палевым и облачным.
Он живет в Горе, на мощеной улице, которую палешане шутя называют Невским проспектом. Тут мало древесной зелени, зато широки горизонты, и отсюда хорошо смотреть на облака, проплывающие над Палехом.
В домашней мастерской Ивана Михайловича — старинные книги, иконы редкой работы и строгая тишина одиночества.
Старый мастер дружен с полем и гумном: у него так естественно увидеть в седых волосах запутавшуюся соломинку или колосок. В глазах его таится мудрое спокойствие человека, чуждого разгулу и не разбрасывающего попусту свои силы. А во всем облике — прилежная неторопливость, свойственная человеку, который много жил и много знает.
На столе перед ним — ящичек с красками: сухие краски аккуратно расставлены в баночках из-под перца, а растворенные — в деревянных ложках с отломанными ручками. Эту обычную палехскую палитру неизменно дополняет скорлупка яйца с желтком.
Рядом с красочницей — две-три очередные вещицы. Нужно вглядеться в их краски, вспомнить десятки других вещей, безвозвратно ушедших за границу, постараться забыть содержание их, закрыть на минутку глаза, — и тогда уловишь цвет художника.
Телесные, палевые, оранжевые тона, будто взятые от раскаленных пустынь Палестины, дыханием вечности переливаются по бакановским миниатюрам.
А его облака... Легкие, белесовато-голубоватые, кругло очерченные серебрецом, заходящие одно за другое, неожиданно посаженные на черный фон, они мудро правят картиной. Единственный мастер облака (небо вообще не принято рисовать на миниатюрах), Иван Баканов умеет как-то умиротворять воздушное серебро их с вечной краской земли. Он, может быть, лучше других знает, где начинается и где кончается искусство: каждая вещь его безукоризненно завершена и спокойно мудра, как ее творец. Посмотришь на его «Стеньку Разина», бросающего в Волгу персидскую княжну, и вдруг поймешь, что ты уже до конца успокоен. А когда поднимешь голову от миниатюры, увидишь серебряную бородку и добрые глаза. И услышишь голос, крепкий и ровный:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: