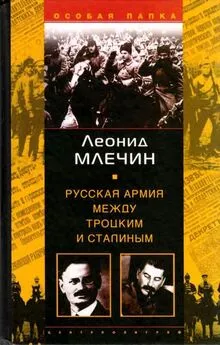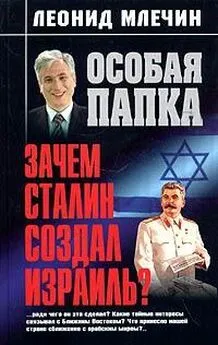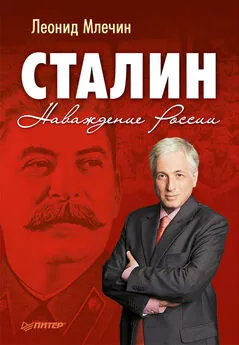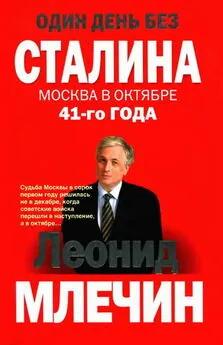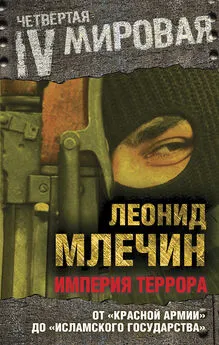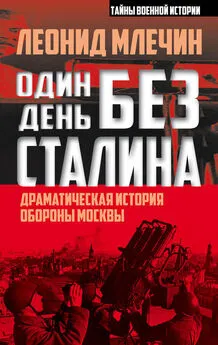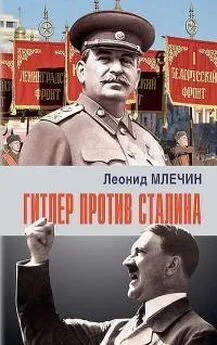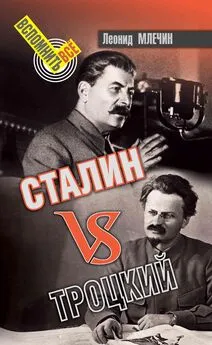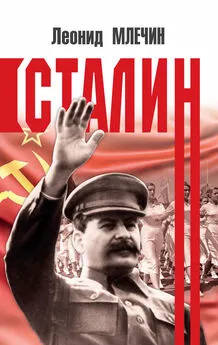Леонид Млечин - Русская армия между Троцким и Сталиным
- Название:Русская армия между Троцким и Сталиным
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-9524-0109-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Млечин - Русская армия между Троцким и Сталиным краткое содержание
Русская армия между Троцким и Сталиным - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отступая, врангелевцы сожгли деревянный мост и взорвали два пролета железобетонного. Сложнейшая система укреплений превращала этот — левый — фланг Крымского фронта в твердыню неприступную. Вдобавок в распоряжении Красной армии во время операции было мало артиллерии, особенно тяжелой, разрушенный транспорт не справлялся с перевозками. Не было и надежных понтонных средств. А белогвардейцы оснастили укрепления мощной артиллерией вплоть до крепостных орудий из Севастополя.
Что на Перекопе, что на Чонгаре сложнейшие естественные рубежи обороны были многократно усилены фортификационными сооружениями, созданными под руководством французских инженеров. И рубежи эти охраняли лучшие полки белой армии, насыщенные офицерами, прошедшими школу трехлетней войны с немцами. И они дрались с ожесточением обреченных, с отчаянием смертников.
Казалось, и сама природа решила помочь белым: наступили необычные для этого времени морозы — до двенадцати, тринадцати, иногда до пятнадцати градусов, дули холодные злые ветры. Врангелевцы сидели в оборудованных блиндажах, были сыты и тепло одеты: «союзники» — французы, англичане — подкинули экипировки из бесполезных после окончания войны интендантских запасов; было вино, был спирт.
А наши красноармейцы? Даже сейчас, спустя столько лет после событий, сердце сжимается, когда вспоминаешь, как были одеты и обуты части 30-й Иркутской дивизии, увековечившие себя в Чонгарском сражении, или славные полки 51-й дивизии, обессмертившие себя штурмом Турецкого вала.
Под утро шестого ноября стал я пробираться к Чонгарскому полуострову. В полевом штабе 4-й армии сказали, что там я найду начальника 30-й дивизии Ивана Кенсориновича Грязнова. Хотелось уточнить: какие из грузов дивизии двигать в первую очередь.
Конечно, все можно было узнать в дивизионных штабах. Но какой девятнадцатилетний комиссар тех лет упустил бы случай и благовидный предлог, чтобы добраться до передовых позиций дивизии, которая вот-вот должна начать решительные действия против Врангеля.
По направлению к станции Чонгар двигались на парной повозке санитары с перевязочным материалом. Лошади бежали ходко, да мороз и ветер пробирался сквозь шинель и гимнастерку, стыли ноги. Мы по очереди слезали и бежали за повозкой.
Все вопросы вертелись вокруг одного: когда, наконец, начнется наступление, или, как выражались многие красноармейцы, «когда будем его кончать». В этой главной мысли сплелось многое и разное: понимание грозных бедствий новой зимней кампании, извечные заботы о запущенном хозяйстве, тоска по дому, по семье, заброшенным ребятишкам. Война до печенок обрыдла всем. А затяжка войны теперь связывалась только с именем барона Врангеля, естественно, что вся ненависть сосредоточилась на нем. «Кончать его» означало ликвидировать последний очаг Гражданской войны, покончить с разором в стране, вернуться по домам.
Так начались дни и ночи, полные неповторимого напряжения, десять дней, за которые раздетая, разутая, почти без артиллерии армия, руководимая профессиональным революционером и бывшим каторжником, разгромила прекрасно вооруженную и оснащенную армию, оборонявшуюся в первоклассной крепости. Да, именно десять дней! В ночь с седьмого на восьмое ноября Иван Иванович Оленчук повел вброд через Сиваш на Литовский полуостров первую штурмовую группу, а семнадцатого была взята Ялта, последнее прибежище белой гвардии.
Наступила такая лихорадочная пора, когда теряется ощущение дня и ночи и собственное существование становится иллюзорным. Я носился между станциями — на паровозах, дрезинах, верхом, бегал от депо к эшелонам, от телеграфного аппарата к телефонному, докладывал, приказывал, спорил, просил, умолял, грозил… Не помню, где и когда я ел в течение этих дней и ночей. Знаю твердо: не спал; во всяком случае, не спал в своей теплушке; может быть, дремал у телеграфного аппарата Морзе, может быть, засыпал в седле или на дубовой железнодорожной скамье у начальника депо, пока готовили паровоз под сверхсрочный состав.
До сознания моего доходили разные сообщения, которые одним могли поддержать бодрость в эти лихорадочные и бессонные дни и ночи: то мы, наконец, после трех безуспешных атак «в лоб» взяли Турецкий вал, то, преодолев укрепления, захватили Тюп-Джанкой и вырвались на оперативный простор. Особенно радостно прозвучала весть о взятии Джанкоя. Значит, позади топкий Сиваш, позади колючие траншеи Чонгара…
И все же казалось, что войны впереди немало и надо продвигать к наступающим частям боепитание, продовольствие, фураж, санпоезда, надо эвакуировать составы с ранеными, больными. Появились сыпнотифозные. Каждый состав с больными, застрявший на любой станции, давил сердце. И только ночью пятнадцатого, когда я узнал, что части Блюхера и 1-й Конной заняли Севастополь, а 9-я стрелковая с боем овладела Феодосией, я направился к теплушке с твердым намерением спать.
И тут мне вручили бланк телеграммы:
«Полевое управление военных сообщений 4-й армии. Военкому Млечину. Начальник штаба Южного фронта приказал: в Крыму, в районе станций Таганаш-Джанкой сформировать поезд в составе трех классных, трех крытых и пяти платформ. Подать к девяти ноль-ноль шестнадцатого ноября с крымской стороны взорванного моста».
Трижды, может, четырежды перечитывал я телеграмму. Что за наваждение! Где к утру взять целый состав, да еще с классными вагонами и горячим паровозом? Что это, Харьков или хотя бы Мелитополь? Это ведь Крым, где только-только тайфуном пронеслась война! Ну, крытые — так на профессиональном языке именовались двухосные товарные вагоны — и платформы я, возможно, найду. Но классные вагоны!
Не прошло и получаса, как мы мчались к Чонгарскому полуострову. «Мчались» надо, разумеется, понимать с поправкой на темпы тех времен, когда главным средством передвижения оставалась лошадь. Но мы сил не жалели, и дрезинка катилась лихо. На станции Чонгар удалось связаться с Джанкоем. На проводе оказался дежурный помощник начальника станции. Я изложил приказ начальника штаба Южного фронта. Ответ последовал точный: крытые и платформы имеются, классных — ни одного. Он обещал дать указание послать для меня дрезину или паровоз. Я сунул в карман переговорную ленту, побежал к дрезине, и мы довольно быстро добрались до взорванного моста.
Теперь предстояло двигаться пешком: идти по мосту, потом по дамбе и дальше по путям. На дрезине нас было трое, был огонь — скудный железнодорожный фонарик. Теперь надо пробираться по шпалам в кромешной ноябрьской тьме и в полном одиночестве.
Я вынул браунинг из кобуры, которую носил под шинелью, загнал патрон, поставил на предохранитель и сунул за ремень. Брать ли с собой огонь? Огонь — мишень, и леший знает, кто на пустынных путях может встретиться — притаившийся белогвардеец, пьяный махновец или заурядный уголовник. Пожалуй, безопаснее идти без огня. Но если не брать фонаря, чем задержать встречную дрезину, тем более паровоз?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: