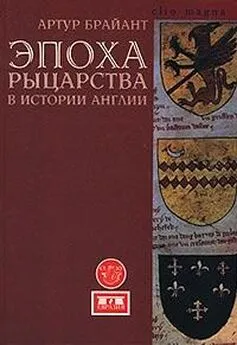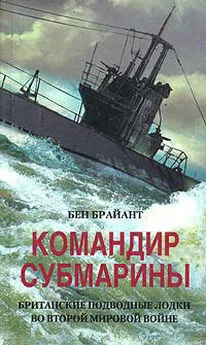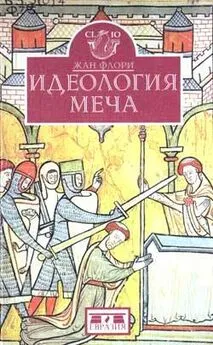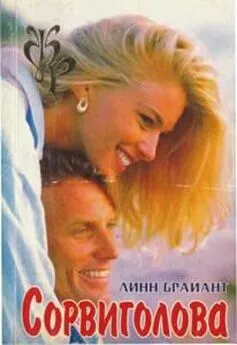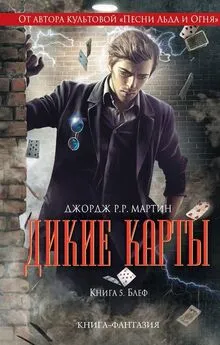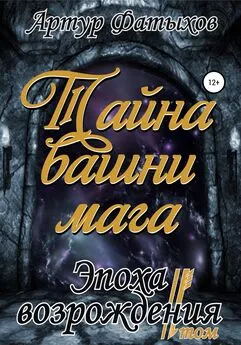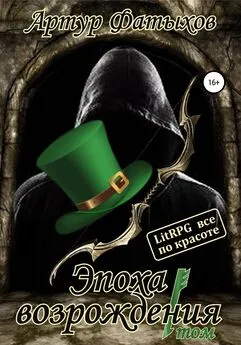Артур Брайант - Эпоха рыцарства
- Название:Эпоха рыцарства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательская группа «Евразия»
- Год:2001
- Город:СПб.
- ISBN:5-8071-0085-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артур Брайант - Эпоха рыцарства краткое содержание
Книга Артура Брайанта «Эпоха рыцарства» посвящена истории Англии с 1272 по 1381 гг., одному из самых сложных и решающих столетий английской истории. «Эпоха рыцарства» имеет дело с довольно небольшим периодом времени, но весьма насыщенным событиями: эволюция парламента, реформа законодательной системы, захват Уэльса, шотландские войны за независимость, первый период Столетней войны, триумф английского лука в битвах при Креси и Пуатье, Черная Смерть, крестьянское восстание под руководством Уота Тайлера 1381 года. В книге можно также ознакомиться с историей церкви, архитектуры, поэзии, образования и проследить формирование английского языка.
Эпоха рыцарства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из-за того, что их проповеди изменяли характер общедоступного богослужения, кафедры, возвышавшиеся на узких подпорках в форме перевернутых бокалов под яркими балдахинами, – в наше время их можно увидеть только в соборах и возле молельных крестов, находящихся под открытым небом, – стали частью сокровенной обстановки церквей богатых городов. С них монахи в капюшонах с помощью выразительных жестов произносили речи, приводившие в восторг паству, дамы в апостольниках и платках располагались вокруг на скамьях, в то время как их мужья стояли позади, прислонившись к колоннам, а простолюдины сидели на корточках или на камнях, покрытых тростниковыми подстилками. Во времена, когда не существовало газет, и лишь немногие умели читать, такие проповеди оказались весьма захватывающими, приправленными не только эффектными историями и остротами, но и новостями со всех концов Европы. Проповедники, читавшие их, умели как тонко льстить своим слушателям, даже когда те критиковали их, так и подвергать осуждению недочеты остальных, что делало их наставления – в своих лучших и проникновенных речах – не только религиозным переживанием (опытом), но и превосходным развлечением. В дошедших до нас записях XIV-XV вв., где некоторые сделаны на родном языке, а некоторые переведены на более благопристойную латынь, можно проследить за их техникой. «Вы хотите, чтобы я поведал вам о почтенных женщинах, – начинает один, возможно, подмигивая, чтобы выказать свой упрек. – Я собираюсь рассказать что-то кроме того, что я вижу ту старую даму, которая спит вон там... Ради Бога, если у кого-нибудь есть булавка, пусть он ее разбудит». Другой проповедник рассказывает о «маленьком черном бесенке», который бегает вокруг во время проповеди и «затыкает уши и закрывает глаза слушающим, делая их глухими и заставляя уснуть», или о крохотном старательном дьяволе, наполняющем целые мешки словами тех, кто «ведет пустые разговоры, болтает» в церкви и обходит стороной искренне молящихся [353]. Его можно увидеть за этим занятием в монастырской трапезной в соборе Или; искусный мастер, вырезавший его, должно быть, слышал такую проповедь.
Это проповедничество имело серьезные последствия. В дни широкой региональной дифференциации оно помогало создать общенациональное мнение, диалект и речь. Гораздо больше, чем могли писатели во времена, когда еще не было создано печатание, проповедники со своими сравнениями, высказываниями и остротами знакомили мужчин и женщин всех слоев общества со словами, пришедшими из половины западных языков и диалектов. И в эпоху поразительной социальной несправедливости и все более увеличивающейся разницы между богатыми и бедными они создали атмосферу внимания, в которой неравенство людей больше не могло считаться полностью неопровержимым. Церковь не учила, что люди равны; наоборот, она утверждала, что мир, как и небеса, является иерархичным, и каждый человек занимает предназначенное ему место и должен почитать и повиноваться тем, кто у власти. Однако живое изображение монахами судьбы, что ожидала неправедных людей, делало очевидным даже самым недалеким людям то, что никто, от короля до последнего нищего, не сможет спастись от адовых мук, если не соблюдает справедливость заповедей. Богатые, вещал в своих назиданиях доктор Бромиард, великий доминиканский проповедник, обманываются, думая, что они сами хозяева своего богатства, в то время как на самом деле они лишь его хранители на короткое время. «Все произошли от одних и тех же прародителей, и все пришли из одной же грязи». Где, вопрошал он, князья зла, короли и лорды, жившие в гордости и владевшие огромными дворцами, поместьями и землями, которые правили безжалостно и сурово, дабы обрести наслаждения мира? «Из всех своих богатств и лакомств у них сейчас ничего нет с собой, а черви пожирают их бренные тела. Вместо дворца, зала и комнаты их души будут томиться в глубоком адовом озере... Вместо ароматических ванн их тела будут погребены в узких могилах в земле, в ваннах чернее и омерзительнее, чем любая ванна из смолы и серы. Вместо бурных объятий их ожидают раскаленные адские угли... Вместо жен у них жабы, вместо огромной свиты и массы последователей их телами овладеют толпы червей, а их душами – сонмы демонов» [354]. Монахи нищенствующих орденов были лидерами эпохи, указывая разобщенному миру на мир вокруг них, где ныне брат не мог более пренебрегать требованиями брата.
Хотя монахи и имели огромное влияние в Церкви, они более не могли обладать всеми высшими должностями, как в дни Фомы Аквинского и Св. Бонавентуры. Затем череда великих университетских докторов с северного острова, читавших лекции в школах Парижа и Оксфорда, внесли вклад в самый поразительный расцвет абстрактной мысли со времен античности. Среди выдающихся философов того времени – Александр Гельзский, Адам Марш «прославленный доктор», Томас Йоркский и Роджер Бэкон; три других известных английских схоласта, двое из которых были монахами, Св. Эдмунд Рич, Килуордби и Печем, по очереди сидели на престоле Св. Августина в Кентербери [355]. И даже еще более знаменитый ученый, Дуне Скот, францисканец из Роксбургшира, высказавший предположение о вероятности существования Бесконечного Бытия, доказав математически, что бесконечность существует, – революционизировал философскую идею, успешно бросив вызов умозаключениям великого Св. Фомы Аквинского, «ангельского доктора», который намеревался примирить в едином разумном гармоничном целом все достоверные знания и скрытую истину. Другой францисканец, родившийся в одной из деревень Суррея в первые годы правления Эдуарда I, Уильям Оккам, доказав с неопровержимой логикой, которую никто не мог опровергнуть, невозможность построить мост через залив между разумом и верой, установив постоянную границу между натурфилософией и теологией и оставив Церкви усложненный способ размышления об одном и вере в другое, упрочил церковную власть как единственную основу религиозной веры: план, насыщенный угрозой веку скептицизма.
В течение XIV в. существовала реакция на чрезмерный интеллектуализм и остроты этого великого ученого. Главным вкладом университетов стало не столько воспитание философов и диалектиков, сколько людей, подходящих для высших должностей Церкви и Государства. Хотя неотступно следуя к своему логическому концу, – иногда так яростно, что архиепископу, папе или королю приходилось усмирять спорщиков, – теологические дискуссии ученых умов теперь затрагивали предметы, более понятные основной части христианской церкви: господство и милосердие, спасение некрещеных, предопределение и свободная воля, достоинство и опасности бедности и нищенства. В этих спорах братья более не добивались полной победы, им бросали вызов светские магистры, получившие образование в маленьких колледжах братьев-священников, недавно образованных в Оксфорде и Кембридже, в то время составлявших около трети от их размеров.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: